Игорь СОРОКИН |
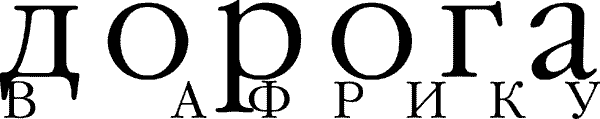 |
| журнальный вариант | краеведческие записки |
Дорогой Гурумбда!
Я написал тебе белые стихи. Белые-белые, как полуденное солнце в разгаре июля, как твои мечты:
Представь, тебе ещё нет десяти. Всё звенит. Пахнет тёплою Волгой. Ты бредёшь, продираясь сквозь заросли, – под горячей стоячей водой ил ледяной и страшный.
Оводы и стрекозы. Тело зудит от порезов осоки и пота. Солнце белее неба. А берега нет и нет.
И вдруг – голоса. Так близко! Крадучись идёшь, счастливый. Быстрее, быстрей – они!
«Я – первопроходимец!» – выкликаешь. Сквозь камышиный лес.Тебя встречает вдруг счастливый взрослый хохот.
Прошло много лет.
Я лежу, раскинувшись на полу.
Жара.
Я выливаю на себя ведро воды, возвращаюсь в комнату и ложусь – свежевымытый пол едва прохладен. Слегка покачивается потолок.
Прямо надо мной, на шкафу, полусфера огромного старого глобуса. Обшарпанное голубое пространство океана – не то Индийского,
не то Атлантического – не могу узнать. Этот глобус я в детстве вытащил с мусорки. Мне кажется, если он упадёт,
то глухо стукнет своей картонной головой прямо мне по лбу – будет приятно.
За окном всё время ездит транспорт – справа налево. У него разгорячённые моторы.
Изредка, подвывая, протаскивает своё гружёное тело – вверх, слева направо – троллейбус.
Я живу на Московской. Лежу и мечтаю о прохладном сухом красном вине. Мне бы хватило четырёх бутылок.
Чтобы, когда выпью одну, оставалось три. Будто в Африке.
Прошло много лет. Июль, вторник.
Океан оказался Тихим. Там, на другой стороне, та самая Африка, Африка. У неё, как и прежде, курносый высокий профиль.
В детстве, где нет ещё географии, – знаешь раньше других неизвестно скольки континентов.
Много сравнений спустя сможешь увидеть в ней дикую девочку со вздёрнутой маленькой грудью.
Там, там-там.
Шкаф, разделяющий комнату, – тот же экватор. На её теневой стороне спит моя Африка. У неё прохладная грудь и полуоткрыты глаза.
А-а. Я снова готов написать эти «Письма из Африки»:
1.
Свобода на языке суахили – «ухуру».
А я вот влюбился в тебя, маленькую мою, русскую дуру.
За дуру прости – это просто, от нежности.
Вольно им там, в Дар-эс-Саламе да Найроби, ё –
сел на бегемота – нно! – вот тебе и озеро Виктория.
А ночью, небось, ещё от океана тянет свежестью…
А моя нежность к тебе больше их Индийского океана.
Как ты не понимаешь этого, моя девочка, дочечка, Анна?
2.
Чёрное в Африке значит, наверное, больше, чем белое.
Счастье, однако, оно ведь и в Африке счастье и всегда означает – целое.
Африка – второй по величине континент на земном шаре.
В северной части – страны Магриба, в южной – режим претории.
А в юго-восточной чего им там… – залез на жирафа и видно: озеро Виктория.
Им там хочется жить в ухуре, а мы тут просто в угаре.
Ты поставь ему нолик, родному, а мне прибавь палочку.
Тогда дважды попадёшь в десятку, маленькая, моя девочка, растам-
аночка.
3.
Им чего там, там безоблачный Нил протекает тягуче.
А у нас Волга – течёт, а над Волгою – тучи.
Я яблоко жую, на балкон выхожу с трубою.
На окне ярким цветом кричит африканским цветок настурция.
Я не знаю, прозреваешь ли ты музыкально-освободительную революцию,
которую мы смогли бы совершить в этом мире – сейчас, с тобою.
Не знаю, как твоя там судьба, а моя вот не знает, как иначе,
поэтому я и закусываю губу, пусть дрожит на ней боль, кровиночка.
4.
Верно, именно там, в Индийском их океане,
остров есть, на котором живёт пресловутый цветочек аленькой,
цветочек, которого краше нет на всём этом свете белом.
Знаешь, кажется, это я там был чудовищем неприкаянным.
Повспоминай, может, это всё-таки ты освободила меня, мой маленький?
Попереводи, где-нибудь непременно поёт этот негр африканский дело:
Мол, хорошо, когда есть рядом родной, но должен ещё быть любимый!
Посмотри, моя маленькая, славная моя, вокруг – кажется, я
самая что ни на есть твоя полов…
|
Когда-то, давным-давно, наверное в то же лето, я написал на удивление точный короткий рассказ. Точнее всего был прохладный эпиграф из Хэма:
|
 |
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ АФРИКА…
|  |
|
Они выпили вальдепеньясского вина, которое быстро пьянило после лансанильского, временно нейтрализованного gazpacho.
Всё вместе ударило в голову.
– Что это за вино? – спросила Кэтрин.
– Африканское, – сказал Дэвид.
– Недаром говорят, что Африка начинается за Пиренеями, – сказала Кэтрин. – Помню, я поразилась, услышав это впервые.
– Сказать легко, – произнёс Дэвид. – На самом деле всё не так просто. Пей вино.
– Откуда же мне знать, где начинается Африка, если я никогда не была там? Все так и норовят тебя надуть.
– Не сомневайся. Африку видно сразу.
Э. Хэмингуэй. «Райский сад» |
Вчера я впервые участвовал в стрижке барана.
Вот, собственно, и весь рассказ. Как я ни силился после что-либо добавить – не вышло. За множеством слов умирала пустыня Сахара.
Художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин родился в городе Хвалынске. Город так назвали при Екатерине Великой, видимо, в честь того,
что в этом месте дольше всего оставалось дно древнего Хвалисского моря... А ещё там родился и жил караульщик и живой человек Алексей Кондратыч,
который рисовал маленькому Кузьме цветными составами собственной изготовки волшебные картины мира:
«Корабль, оснащённый на все мачты, плывёт морем. Пена волн доплёскивает до бортов. Это океан – море Египетское.
Далеко по горизонту земля цветущая, ходят по ней люди индейские. Туда корабль путь держит, да путь труден.
Корабельщики толкутся, снуют по палубе… И вот из глубины морской, разрезав волну, выскакивает фараон-рыба, голова девья, и впивается в несчастное судно.
И спрашивает хищница: «Когда, корабельщики, конец света наступит? Ой, измучилась я, фараон-рыба, ожидаючи!»
На все ответы, кроме одного, следует неминучая гибель. Надо ответить: вчера.
И тогда рыба всплеснёт хвостом, взвоет страшным голосом и нырнёт в воду…»
<...>
|
Отец истории Геродот составил список всех известных ему африканских народов.
«Ливийцы обитают в следующем порядке: начиная от Египта, первое ливийское племя – адирмахиды.
Обычаи у них большей частью египетские, а одежда – такая же, как у других ливийцев.
Женщины их носят на обеих ногах по медному кольцу и отращивают длинные волосы на голове.
Поймав вошь, они кусают её в свою очередь и затем отбрасывают. Так поступают из всех ливийцев одни они, и только у них существует обычай
предлагать царям своих девушек на выданье. А царь тех девушек, которые ему желанны, лишает невинности.
...За авсхисами на западе идёт многочисленное племя насамонов. Летом эти насамоны оставляют скот пастись на побережье,
а сами уходят в глубь страны за финиками. Ещё они ловят саранчу, сушат её, размалывают и едят со свежим молоком.
Жёны у них общие, совокупляются они подобно масагетам: ставят палку перед дверью и совокупляются.
Невеста в первую брачную ночь должна по очереди совокупиться с каждым гостем, а тот должен подарить подарок.
Для гадания насамоны ходят к могилам предков и спят на них, и верят всякому сновидению.
|
|
Дружеские же союзы заключают так: дают пить друг другу из ладони, а если пить нечего, лижут пыль.
Псиллы, соседи насамонов, погибли. Южный ветер высушил все водоёмы, и псиллы пошли на него войной. Когда они оказались в пустыне, ветер засыпал их песком.
Теперь насамоны владеют их землями.
Ещё дальше к югу, в стране диких зверей, живут гараманты. Они сторонятся людей и не имеют оружия. В их землях пасутся быки, всё время пятясь,
– такие у них рога. Эти гараманты охотятся на пещерных эфиопов, самых быстроногих эфиопов на земле, загоняя их на колесницах, запряжённых квадригою.
Эти пещерные жители употребляют в пищу ящериц, змей, других гадов и издают звуки, подобные писку летучих мышей, – таков их язык.
Возле другого соляного холма, в десяти днях пути, живёт племя атарантов – у них не бывает имён. А ещё через десять дней, возле
такого же холма рядом с источником, вросла в небо гора – узкая и круглая. Она так высока, что не видно вершины.
Зимой и летом она покрыта облаками. Имя её Атлас. Народ по этому имени зовётся атлантами.
Рассказывают, будто они не едят живых существ и не видят снов»... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Жадное жестокое белое жидкое жуткое ра жжжжжжжара
Сахар-песок – Ра-финад.
Пить
<...>
...Там, на углу Астраханской за чёрной оградой футбольного поля – между I-м и V-м, возле скамеек-трибун, возле дерева ясень.
Отблески фар в лужах прибитого поля, стрёкот трамваев, ледяные перила снарядов.
Там, в скверике между народным судом и берёзкой за домом. Вид из чужого окна за пыльным разросшимся вязом.
Между школой и городом, лесом – железной дорогой, свободой и счастьем. Истерика, слёзы, куча осенних листьев, безумные радуги фар. Пять-десят-ок-тября.
Там. Там, там.
Там – последнее расставанье. Голубая рубашка. Последний этаж. Там. Там. Первый – последний. Ещё раз. Море – пятно. Бархат бордовой повязки – разбитое веко.
Лётчик-чикские очки.
Там, в одном из соседних подъездов с видом на старую школу. Чёртова дюжина. Корень кубический. Ночь. Батарея. Окно.
Ночь. Ночь, ночь напролёт. За холодным ключом коридора. Квадратное лоно кровати, зима, черепаха любовь. Пьяные рыбки, серебряный дождь за окном.
День, день. Дети, собаки, рабоче-дворянское утро. Ещё и ещё. Стыдно – не стыдно.
Есть города, как сны для городов.
Есть молодые смелые народы.
<...>
По ночам на Московской раздаётся цокот копыт – это катится сверху, к Волге, разудалая компания в прогулочной коляске,
или напротив – тянется вверх пустая, в ожиданьи седока. За окном против нашего дома – губернаторский дом.
В нём пахнет гречневой кашей...
|
рухнула ветка –
ночью был ветер и дождь.
холодом вечности
пахнет соседская каша.
в детских садах
и поныне, наверное, мукой
кажется жизнь.
|
 |
Белёная из кирпича ограда
в шахматном порядке, а за ней
пыльные кусты сирени, волчья ягода,
напролёт горланит целый день,
лает и скрежещет репродуктор –
перекличка от столба к столбу,
на плакате еле видно буквы,
никому не надо этих букв.
«Песняры», «Последние известия»
да из тира редкие хлопки,
из кинотеатра звуков бестии
долетают, Господи прости.
Львиный зев по цветникам пылает,
а бурьян, крапива да полынь –
где уж как придётся:
по углам и
стадион – по шейку, хоть плыви…
визг качелей и – мороз по коже,
приседай, подпрыгивай – летим.
На сердца зелёные похожи
листья у сирени – всё один,
всё одно: посередине парка
истукан с протянутой рукой
и с утра невыносимо жарко,
жить – не знай, а умереть легко. |
 |
ахмат белогорское вол-га дурман-гора
курган Ванька-Каин, овраг Тюрьма, утёс Стеньки Ра…
Ра, возле Ра, у Ра.
Дельта Волги впадает в Каспийское море. Там, за Увеком, откуда круглится земля, там-там. Дорога в Африку.
Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба – чёрного и белого, только не горелого! урa-ура!
Там, на дороге, предыдущей зимой – «Сказка»: |
1.
Как будто сон: тупик Кавказский,
зима, капели с потолка,
из-под холодной полумаски
любовь, изранена слегка,
подмигивает. Строит глазки
и нас кладет в свои войска,
мы – дети верные полка;
одежд знамёна ветер райский
срывает, чем-то у виска
свистит – но мы в своих руках
друг друга держим, полных ласки.
|
2.
Походный быт, тупик Кавказский,
пар изо рта, невелика
ещё беда и не опасно –
лиха – начало – не лиха!
Но всё уже наверняха,
хотя давно уже напрасно –
хоть чисто, да не без греха.
За всё заплатим кровью красной.
Всё синим пламенем погаснет,
как электричество и как
там, за окном, летящий ясень.
|
3.
Соседей тихая гримаса –
на типочках, усы в клубках;
они услышат в щёлку нас и
оставят в страстных дураках,
а сами отойдут икать,
припоминая жизнь неясно –
свои чужие берега…
Зачем ты здесь, тупик Кавказский?
Всё отопленье – синий газ и
на запотевшей кухне ласки.
А нам – хоть море с потолка.
|
4.
Автобус нас в могиле братской
несёт сюда издалека
из суеты сквозь свистопляску,
метелью запхнутой в рукав, –
услышать шелест зимних трав
и тишины принять лекарства.
А где-то рядом, в двух шагах,
скрипучих белоснежным настом,
лежит великая река
невидимая, вся в снегах –
степна, огромна и напрасна.
|
5.
Устало вечера рука
мешает сумрачные краски –
автопортрет, колени, Саския
в Берёзове. Бредут века
в колючих шерстяных носках и
летят на ледяных салазках
минуты в снежных облаках.
А вид всё тот же из окна:
два-три светящихся окна
и в чёрный профиль старый ясень,
что с небом крохотным согласен пока.
|
6.
Но – по там-таму всё прекрасней
бьёт в лайке тонкая рука.
О, как бестрепетно дика
судьбы бордовая повязка –
сундук, бутылка, йо-хо-ха,
любви безумные богатства.
Наш боевой клич полон страсти –
соседа бьёт наверняка:
Ю-урль! Голго! Урли ей бац ва!
Любовный трепет, Африка! –
блаженство, равенство и рабство.
|
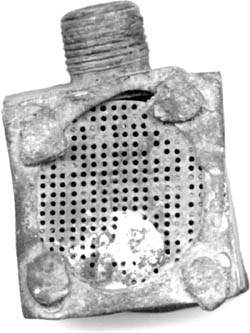 |
7.
Как будто сон: тупик Кавказский,
зима, капели с потолка.
Душевной смутой ясной-ясной
жизнь видится, легка-легка –
мы с неизвестными две маски,
мы сумма (х+у). А
вся разница лишь в том пока,
что все решения прекрасны.
Откройся, где ты? Кто Вы, маска?
Кому нужны мы сквозь века?
Все это называлось «Сказкой».
|
«Сказкой» назывался магазин на остановке – Детский мир Заводского района.
«Всякий раз, когда тебе снилась вода, в этой плохой квартире случался потоп».
С годами у человека всё меньше возможностей испытать что-либо впервые. Это и есть жизненный опыт.
В наших местах стрижка овец начинается в апреле. Этого я не знал.
Стригли обычными ножницами, какие есть в каждом доме. Поначалу показалось очень трудным, поскольку я попытался состригать свалявшийся верхний слой.
Потом запустил руку внутрь, где было, как в Африке, – жарко и горячо.
– Что это за вино?
– Африканское.
– Это же кровь!
Чтобы понять природу диких плясок, нужно пройти – пробежать, пропрыгать на одной ножке, на двух, трёх, пролететь, завывая,
– по раскалённому знойным солнцем песчаному пляжу. Двести десять шагов.
Чтобы сбылось заветное желание, нужно написать его на спине рыбы и выпустить обратно в Нил – это самый короткий путь в божественные пределы.
<...>
Там, на Стрелке, под железною крышей. Голуби, голуби, пыль, слуховое окно, звёзды, звёзды, большие стропила.
Счастье, что не было дома, – глухое окно и закрытая дверь...
<...>
У антоновки-яблони снята пыльца
с толстой ветви, ползущей змеёю
над двором – до зеркального блеска.
Это я, постоянно сигая с крыльца,
как Тарзан, как летающий маленький ца,
зацепляюсь рукой за неё и
полирую, – всё летнее время ареста –
воли-вольной, неволи – тревожу покои
безмятежного Красноармейска.
Редко-редко на взбалмошный крик петуха
огрызнётся глухая собака.
Так-то дикой жарой исполняется полдень,
начинается зной. И ему полыхать
до конца борозды, до… – пахать и пахать
до скончания – света и мрака.
И над тесным своим горизонтом –
крыши, листья, заборы – садовый оракул
возвещает всем нехотя: «мол, де…»
И роняется яблоко из-под небес –
точно: в бочку, по крыше чулана, в малинник.
Где-нибудь вдалеке «Маяка» погуляют напевы.
И, наверное, кто-то последние слушать извес…
Каникулы в самом разгаре. Мы сидим на прохладном полу вокруг большой железной банки из-под селёдки-иваси.
В ней толстенькие гильзы от строительных патронов, собранные на Стройке. Каждую гильзу мы начиняем серой, соскоблённой со спичек, и зажимаем плоскогубцами.
Головки коричневые, а всё равно сера – необъяснимо. Спички в ту пору были особенно жирными, не то что после, в перестройку.
Хватало десяти штук на заряд. При родителях такой фигнёй не позанимаешься: только раздаётся звонок или слышится шорох ключа в замке,
всё забрасывается в банку, банка одним движением ноги задвигается в дальний угол под шкаф, мы сидим – читаем книгу, смотрим телевизор.
День, другой, третий. Волнение нарастает. Бдж!
Мы идём на «железку» за дальние гаражи Жж.
Там мы садимся за пыльным бурьяном к кирпичной спине и ждём, щурясь от яркого солнца. Вдруг – ещё ничего не видно – в той стороне,
где мост, раздаётся дрожание – даже ещё без звука: поезд. товарный. еле ползёт, гружёный.
Мы высыпаем и расставляем на рельсах: по одиночке, очередью: пять, десять, три – как получится – поезд уже под мостом.
Машинист видит нас и орёт всепронзительным свистом. Мы волнуемся, но успеваем – железная банка пуста. Матерись, матерись.
Мы садимся в бурьян, достаём из пачки «Любительских» по папиросе и нагло затягиваясь – нога на ногу – смотрим на эту войнушку:
Бдж!Бдж! БджБджБдж тра–тататаБдж!
и где-то высоко, сквозь канонаду и дребезжащий грохот испуганного локомотива
мать … перемать Бдж! …нюки
Давай, давай, дядя, – громче, ещё сильнее перегнись из своего окошка, выпади.
маши, бдж, маши, тратата
минута вседозволенного
счастья.
солнце сверкает на лезвиях
рельсов.
|
Иван Парфёнович Горизонтов. Письма к приятелю.
Саратовский листок, 1885
Письмо XII:
|
|
«…Презрев советы друзей и убеждения матери, М.М.Корнеев прикрыл торговлю сапожными товарами и открыл гостиницу с номерами под громким названием «Прогресс».
…Дело пошло. …Гром и шум не переставали в «Москве» у г. Барыкина и в ресторане г. Корнеева, который задумал удивить саратовцев образованием зимнего
тропического сада. И действительно удивил. В Москве покупались пальмы, из коих были великолепные экземпляры (например, латания в обхват),
выстроена была стеклянная зала, с искусственными гротами и пещерами, с висящими киосками и беседками; посредине зала бил фонтан, лаская слух
беспрерывным журчанием льющихся струй, ...и над всем этим мирным уголком экзотической зелени носился предприимчивый дух г. Корнеева, всё измышлявшего,
что бы сделать ещё такого, от чего ударило бы саратовцев в глаза и в нос… «Иродово племя» появилось и у него: что там ни измышляй,
а лучше Григория Ивановича не выдумаешь по части заманивания публики.
Сначала в «тропический сад» г. Корнеева, как на диковинку, бросилась было и порядочная публика (даже дамы), но два-три громких скандала
заставили саратовцев разбежаться и отбили у них
(т.е. у порядочной части общества) охоту пить чай под тенью широколиственной пальмы. Даже пальмы, эти дети жгучей Африки и палящих лучей Индии,
задумались и поникли листьями, глядя на разгул и ночные оргии сынов снежных равнин и морозов. Ни Африка, ни Индия,
где люди едят в день горсть фиников и рису, где пьют глоток доморощенного вина, – ни одна из этих стран не могла дать и приблизительного понятия о том –
как надо пить и как действительно пьют русские люди. Латании только содрогались листьями при виде гулявшей компании.
И пить будем, и гулять будем! –
неслось из цыганских уст, которым с визгом поддакивали любители из публики.
Среди шума, гама, пения и музыки нередко раздавались звуки оплеух и крики дравшихся людей. Сам г. Корнеев, присвоивший себе титул «директора»
и величаво носивший его (он с гордостью говорил, что в Саратове их, директоров, только трое!), сам он был скор на руку и
действовал ею твёрдо и с ловкостью боксёра.»
|
| |
|
<...>
Кто не делал куличиков из песка, кашу из грязи, салат из травы-муравы – два шага назад!
Если нырнуть в Медведицу и пройтись руками по ледяному дну, можно погладить там стебли кувшинок.
Если сорвать кувшинку со стеблем, то, надламывая его и снимая кожицу, надламывая и снимая, сделаешь ожерелье. Надламывая и снимая.
Прохладное ожерелье.
| 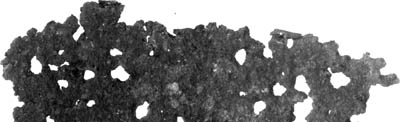 |
|
|
Впервые Саратов с Африкой, похоже, встретились бок о бок в Средиземном море под командованием графа Алексея Орлова.
И породнились – в пекле Чесменской бухты в ночь с 25 на 26 июня 1770 года. Для знаменитой ночной атаки – 1.000 : 1 - турецкого флота командору
Грейгу были даны четыре быстроходных брандера и четыре корабля: «Ростислав», «Не тронь меня», «Европа» и «Саратов».
А также два фрегата: «Африка» и «Надежда благополучия».
|
Уганда находится в самом сердце африканского континента. С юга она граничит с Танзанией, а с севера – с Суданом, с запада у неё Заир,
а с востока – Кения. Ещё в её власти пол-озера Виктория, и отсюда берёт начало Белый Нил. А посередине – Экватор.
Экватор по-русски – равноденник, «такой круг, подотвесный к оси мира и делящий мнимую небесную твердь и землю на две равные половины: северную и южную.
Под этим кругом дни и ночи всегда равны, а широта места нуль» (В.И.Даль).
аторэкваторэкваторэкваторэкваторэкваторэкваторэкваторэкваторэкваторэкват
|
|
В Великой книге почтовых отправлений сказано, что запрещено ввозить в Республику Уганда ножи; спички; светящиеся циферблаты; жидкий целлулоид;
наркотики; фальшивые марки и печати; оружие, боеприпасы; разлагающиеся биологические вещества (в посылках); японские кисточки для бритья;
несъедобные продукты; сгущённое молоко менее 9% жирности; живых животных; гербы; фальшивые монеты; банковские билеты и другие знаки оплаты;
принадлежности иностранных лотерей; предметы оскорбительного характера; воспламеняющиеся жидкости; товары, поступающие из Южной Африки и Португалии.
Некоторые предметы, допущенные к ввозу условно: опиум, морфий, кокаин и другие наркотики – при наличии у адресата разрешения Главного врача в Энтеббе,
Республика Уганда; вещи, бывшие в употреблении, – при наличии свидетельства о дезинфекции; паразиты, истребители насекомых, разлагающиеся
биологические субстанции – в порядке обмена между официально признанными предприятиями, в упаковке, соответствующей положениям Всемирной почтовой конвенции;
слитки, монеты – только в посылках с объявленной ценностью; униформа, оружие, драгоценные металлы, порнография –
при наличии разрешения Комиссариата таможни.
|
| |
|
Если нырнуть в Большую Медведицу, то, пройдясь руками по карте звёздного неба, – вот Орион, это – Альфа Центавра, там… – вынырнешь в Малой.
Уплывают коричневой Волгой
пятна нефти в Каспийское море.
Рыбьим жиром, мазутом, карболкой
пахнут сумерки, осени вторя.
В детстве было, наверное, то же,
только ливни хлестали сильнее,
только окрики лоцманов строже
и вода возле сходней чернее.
Только были другие предметы:
монастырского храма руины,
куст на крыше, распластанный ветром,
и под ними – плавучий зверинец.
Новый мост был действительно новым,
старый город действительно старым,
и двудечный кораблик огромным,
и рязанской рубахой татарин.
И арбузы в четыре обхвата.
Шарф чужой вокруг шеи три раза.
И казалось, что смерть акробата
так прекрасна – как жизнь водолаза.
Но о чём – у причала подслушав –
говорили – не помню, не понял –
пароходные рупоры, скушные
пеликаны и серые пони.
Нахватались лишь жадные чайки –
чтобы завтра забыть – разговоров
у цепей заржавелых, отчаянно
улетая в Каспийское море…
Записки пятилетнего *
*) Владимира Милашевского
Очень холодно. Мелкий снег, как острые иголки, колет щёки. Лошадь бросает копытами жёсткие комья.
Я сижу рядом с отцом, ему снеговые шишки летят на рукава шубы.
- Не холодно? – спрашивает отец.
- Нет!
Разве я скажу, что мне холодно. Вечереет. Зажигают огни. Они видны в дырах между листьями папоротников и хвощей, нарисованных морозом на стекле окон.
Кое-где, между морозными узорами, видна внутренность жилья; цветы у окон – фикусы и ещё какие-то разлапы. В нижних этажах уже закрыты ставни.
Едем, едем вдоль по Московской…
Доехали. Дальше езды нет. Стоит большой дом поперёк площади. А!.. Это – вокзал, я бывал на нём летом, когда уезжал к дяде.
Тогда он был такой весёлый!.. Теперь, зимой, его не узнать, он чёрный, мрачный, с дырками больших окон. Злой, не домашний свет виден за ними.
Мы прошли через огромную дверь, ветер так и хлещет, если чуть приоткрыть её!
Потом втиснулись в какой-то большой чёрный ящик и сразу нырнули вбок направо, и тогда вступили в большую залу,
где сидели люди на узлах и перевязанных верёвками ящиках.
– Смотри! – показал мне отец на какие-то высокие деревья в деревянных ящиках. – Это пальмы! Листья жёсткие, точно нарезанные из жести, узкие и длинные…
а сам ствол обмотан старыми трухлявыми коричневыми валенками.
Я никогда не слыхал этого слова: «Пальмы».
– Пальмы… это что же, они только в деревянных ящиках растут?
Но отец мне ничего не ответил, он всё смотрел, смотрел куда-то, поворачивался и опять смотрел… Потом, когда мы помолчали, он вдруг сказал смеясь:
– Нет! Это они только на вокзалах в ящиках растут, а у себя дома они растут в земле, как у нас дубы и сосны на горах…
За носильщиком вприпрыжку бежала тётка с лёгким чемоданчиком, она прижимала его к груди, может быть, там у неё деньги…
А носильщик с усами в морозных ледышках говорил ей на ходу:
– Я вас, сударынька, в первый класс устрою, чемоданчики у самых пальм поставлю!..
А-а! Значит, где пальма – это первый класс!
Пол выстлан ровненькими, ровненькими плиточками холодными, холоднее самого льда, а о снеге и говорить нечего.
Так мороз через валеночки и прошибает… так и жжёт…
А плиточки гладкие, скользкие. Вот бы разбежаться да и поехать, хорошо бы было! Но знаю, нельзя, тут все взрослые, они ходят медленно,
только одни носильщики бегают, но всё-таки и они не раскатывают с разбега… Нельзя! Нельзя! Нельзя баловаться, знаю я их…
<...>
|
Волга. Чардым. Острова.
Скоро уже рассвет.
Спеты последние песни за протокой – ещё помигивают костры, отражаясь в недвижной глади. Почти безмолвие.
В небе – огромные звёзды.
Возле лунной дорожки – крытая тентом «казанка».
Вдруг ни с того, ни с сего она тихо качнулась, ещё… и ещё – хлюпнула бортом. Стала вдруг оживать, оживать: рябь по лунной дорожке,
сдавленный шёпот волны, хлюпанье, хлюпанье – волны, шуршание носа о мокрый песок, оторопь, стоны, безмолвные переговоры – волна за волной.
Всё стихает внезапно.
Лишь изредка всхлипнет разбуженная волна – неизвестно откуда.
На горизонте светлеет.
Вот за вёсельной лодкой очнулась вдруг чья-то гулянка. Её покачивания тяжелы.
Круги по воде – будто – кто-то лениво клюёт – от огромного поплавка.
Покачалась – хлюп-хлоп – покачалась и стихла – хлюп-хлоп.
Луна растворяется в розовом небе. Справа над нею взошла и сверкает утренняя звезда. Венера, звезда-чигирь.
Так зачинаются волгари…
1.
Как хорошо немного одиноким
быть поутру, когда ещё земля
не испеклась на беспощадном солнце
и нежится огромная река,
и ты над ней – ни властвовать не волен,
ни быть её рабом – сам по себе,
как и она сама, в легчайшей дымке.
2.
Можно встать с этой лавки – купаться махнуть на Тинь-зинь,
добрести до Затона, а дури хватить – до Увека.
но мне этого мало – поэтому я водрузил
между ними себя, ни варяга, ни грека.
3.
Вей, ветерок,
по-над речкой жужжи, катерок,
белые лайнеры, стойте вдали, приближаясь…
Древнее лабиринтодонтов вряд ли сыщешь на Волге ископаемых драконов. Они достигали трёх-четырёх метров и были предками пресмыкающихся, появившихся в карбоне:
300-400 миллионов лет назад. Тогда ещё Волга не считалась великой русской рекой, так не называлась и писалась с маленькой буквы.
Тогда ещё не было рек, а всё было африкой. Тогда ещё Африка не считалась континентом, никак не называлась,
и писать тогда вовсе не умели… даже с маленькой буквы.
Если волго-волго-волго…
спой на корме: е … бе … рег … ме …
наперекор пологлохшему грохоту.
Чтобы во … сне тебе … есни …аячили
и бес … обудными … вёздами … азнили –
луннай … арожки … умесяца … лянчили
и па лу … чили полсолнышка … разнику
Слышно-то плохо как!
|
Иван Парфёнович Горизонтов. Письма к приятелю. Письмо XII (продолжение)
Письмо XII:
|
|
Тропический зимний сад достоин был того, чтобы увековечить его на полотне и бумаге… Вечер. Кончается театр, и публика разъезжается.
По домам и по другим местам города.
– Эй, – кричит один приятель другому, – махнём в Корнеевку?
– Идёт! – Едут... Громадные шапки густолиственных пальм пропадают в облаках табачного дыма, откуда, точно птичьи гнёзда, выглядывают то там,
то здесь маленькие кабинетики, устроенные под крышей. …Со стеклянной крыши каплет дождём – это охлаждающийся пар людского дыхания;
запахи самые противные и вместе разнообразные носятся в угарной атмосфере; слышится подопрелый «дух» земли, исходящий от бесчисленных банок с растениями;
звучит разбиваемая посуда, раздаётся орание песен, и вдруг, точно обезумевшие, гремят трубы оркестра, потопляя в своих звуках начинающийся скандал…
– Эй, эфиопы! – кричит какой-нибудь купец, сорвавшийся из картинной галереи И.Ф.Горбунова.
– Эй! Разделывай «Москву»!
Цыгане схватываются как оглашённые, бренчат гитарами и заводят романс:
– Ах, Москва, Москва, Москва…
А вот в укромном уголку, закрытом ползущим плющом, обвившим грот своею цепкою бледно-зелёною листвою, уселась компания земцев и адвокатов:
эти кутят без крика, но вплотную и пьют мёртвую. Не довольствуясь существующими винами, не удовлетворяясь их крепостью и вкусом,
они тянут «медведя» – нечто убийственное по своей чудовищной помеси. Вместе сливается разное вино, делается механическая
(а может быть, и химическая) смесь какой-то спиртовой бурды, которая под названием «медведя» распивается артистами-кутилами…
– Я негр! – кричит один из хвативших медведя и, хотя он обитает на какой-нибудь Крапивной улице в Саратове, а всё требует, чтоб его свезли в Африку…
Далеко за полночь; дело близко к рассвету, и яркие зимние звёзды, блистающие в небесной синеве всеми цветами драгоценных каменьев,
уже бледнеют и исчезают в пробуждающемся дневном свете. В монастыре глухо ударили в колокол, и звуки его, дрожа и переливаясь в морозном воздухе,
понеслись над городом, будя уснувшее трезвое население Саратова. А кутилы всё ещё колеблющимися шагами шляются между лавровых
деревьев и пальмовых кустов «тропического сада».
Пора домой. … До свидания, дружище.
|
| |
|
Цитрамон-Ра...
Новый год. Детство. Солнце сквозь морозные узоры на стекле.
Чёрный ромбик с жёлтыми буквами – Maroc – на руке, на лбу, на полировке секретера.
Под ёлкой, под окном у батареи, тёплый уютный дом. На небе шары, гирлянды, звёзды. Ватные яблоки, груши, сверкающие сосульки и золотые дожди.
Если вставить четвертинку апельсина в рот, мякотью внутрь, и слегка стиснуть зубы –разольётся божественный сок.
Если при этом оттопырить уши и посмотреть на себя в зеркало – захочется мычать и прыгать.
стол,
со стола на диван
с дивана на...
До свидания, люстра!
Зимой и летом одним цветом?
Троллейбус. Нос у алкоголика. Ёлка.
Как много, как быстро
И детство давно прошло…
Времени нет
Это только движенье планет |
В состоянии мелкого тран – дилидон-дили-жанса
хожу по свободной волне: новый год – новый год.
постою у окна – запах пыли от занавесок
мне напомнит о времени детской неволи и счастья.
Батарея печёт, обжигая, стекло ледяное прохладой
одиночества веет. А жизнь на морозе идёт
своим чередом: отражается солнце в сосульках,
летит самолёт и скрипит под подошвами снег.
|
Профиль Африки похож на вздорную
фифу, выронившую от удивленья изо рта
кусок Мадагаскара. У неё тяжёлый
затылок: золото континента. Там-там.
Двенадцать мраморных слоников,
раскиданных по земле: в ящике с
игрушками, на дне, в шкатулке с нитками,
в песочнице, рядом с секретиком в
правом углу, неизвестно где и откуда. |
|
Нас старшие на танцы не берут –
ушли в своих клешах и платьях-мини.
А мы идём подсматривать, как в бане
купаются родители её.
Потом мы вынимаем нашу крысу,
из старой шубы, и её относим
через дорогу в пыльную траву.
Потом идём минёрами обратно
таиться за воротами и нитку
сжимать до онемения в руке.
Потом, когда мы наконец услышим
– мерещится? – шаги, и голоса, и…
нет, не ошиблись: взвизги, крик и топот!
Мы просто содрогаемся от счастья.
И страшно за ворота выходить.
Там фонари сиреневого цвета
подрагивают жалко из листвы.
Её лицо испариной покрыто,
и сердце на двоих одно стучит.
Уже давно я знаю слово «бля».
Абу-Симбел! Абу-Симбел! Этикетка будто императорский штандарт: белый, жёлтый, чёрный. И, кажется, красный. Русско-германский штандарт.
Тёмно-коричневая, почти чёрного цвета, бутылка с таинственным содержимым.
Тяжёлая, с трудом устанавливаемая меж других сосудов и посуд в тёмном чреве старого немецкого буфета: бальцер – бабуля, дедуля – красноармейск.
Тёмный запах коричного ветра. Эликсир беспечности и несвободы.
Пустые глазницы. Внутренний взгляд фараона Рамзеса II. Древний свет золотого дождя.
Кажется, именно там, в яблоневом саду, где в лучах бесконечного солнца порхают цветы глуповатых капустниц,
там, в тайниках каменной груды у задней стенки курятника – она, эта завалинка-насыпь, груда жёлто-белых черепов известняка образовывалась везде,
где копали глинистую землю, чтобы сделать её плодородной, – там начинается эта дорога.
Там, там, где вода в ржавой бочке так сладка и тепла на запах, где кружится голова от молодой земли.
Там, в клубящихся от пыли золотых лучах, проникших сквозь щели в тёмные царства сараев, там, в сводчатом подземелье,
в его ледяных шершавых стенах, напитавших мягкую влагу, – боги света и тьмы.
Абу-симбел, огонь, обжигающий ветер, песок. Три дороги, египет. Там-там.
История с летающими крокодилами берёт своё начало у Геродота. Помните: летят из Африки четыре розовых напильника?
И потом: зачем мне холодильник, когда я не курю?
Действительно, зачем мне жёлтый холодильник «Саратов», который скоро год как стоит на веранде? А курить я бросил в ночь с 18 на 21 ноября 98 года.
А на холодильнике водружён памятник судано-китайской розы. Гибискус. Летом 2000 года на нём одновременно распустилось двенадцать ярко-красных бутонов.
Гип-гип, искус!
Когда бы ты знал, Гурумбда, как умопомрачительно, как тепло и головокружительно пахнет летняя Волга!
Как величественно печальны песочные замки, размытые на заре!
В день Нептуна пацанам проще всего, обмазавшись грязью, превращаться в чертенят и негров. Что, впрочем, одно и то же.
Только в первом случае из плавок нужно выпустить верёвку вместо хвоста, а во втором – опоясаться юбкой из осоки.
Задача всё равно одна: сталкивать по мановению нептунова жезла в воду непокорных.
В этот день можно всё. Даже случайно дотронуться в воде до упругой девичьей грудки, тут же словив – понятно лишь двоим – звонкую оплеуху.
Сколько упоения в этом барахтанье, глотанье, визге. Сколько надежды подсмотреть, как случайно соскочит купальник, и… – ещё раз, и ещё, ещё.
Одна надежда, другая. Пока не обессилишь. А в награду за красные глаза, за звон в ушах, за ссадины и шишки – может, всего лишь – первое
в жизни – наблюденье: как набухают у юных нимф и русалок, унизанных болотными водорослями, маленькие волны прикосновений, как образуются от холода соски.
Прощай, Гурумбда! Вспоминай иногда всех нас и слова поэта Заходера:
Шли из Африки в Саратов
Семь отчаянных пиратов.
Не дошли до Душанбе –
Видят надпись на столбе:
Шли из Африки в Саратов
Семь отчаянных пиратов.
Не дошли до Душанбе –
Видят надпись на столбе:
Шли из Африки в Саратов…
|
|
