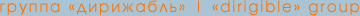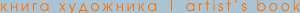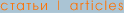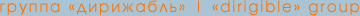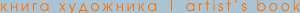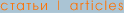«Эрика» берет четыре копии – этого достаточно.
А.Галич.1972
...тираж безразличен.
Л.Тишков.1992
Современное искусство едва ли попросишь о чувственных наслаждениях.
А книга, этот символ интеллектуальных ценностей, на них по-прежнему щедра. Книгу можно нюхать, трогать и гладить.
Книгой хочется обладать. Особенно зовет к осязанию книга рукодельная, уникальная. На выставке таких книг лучшие
из нас с трудом удержатся от приступа клептомании. Какая вакханалия тактильности, какое искушение трогать шероховатые
страницы с неровным ручным обрезом, холодные металлические, теплые бумажные; вслепую узнавать, как книга склеена,
сшита, чувствовать фактуру контура, переживать наслоение коллажа; следить за почерком, почти высунув язык, наслаждаться
ошибками; обнаруживать все новые и новые сюрпризы, разворачивать шуршащие папиросно-бумажные мешочки, дергать за
ниточки, осторожно дышать в прорези, хранящие остроту макетного ножа; наконец, разгадывать книгу в том, что
уже оторвалось от книжного корешка и стало настольным театром, воздушным змеем, каталожным ящиком. Теребить все
это, портить и сотворчествовать. Играть в книгу.
Но искушение ласкать эти книги взглядом и рукой влечет за собой искушение
ласкать их и описанием, поддаться потоку деталей, приемов и приемчиков, остаться с ними навсегда и забыться.
Такова ловушка уникальной, придуманной книги. После скудной диеты, после одинаковых
отпрысков типографии она одаривает нас фантастическим театральным разнообразием, возжигает все наши дремавшие
способности к чувствованию – но одновременно шумом приемов заглушает голос целого, голос понятия: а что, собственно,
перед нами? Что за парадокс? Какая потребность заставляет художников и поэтов делать книги руками?
Конечно, проблема термина. Называть ли такую книгу авторской? – Но не всегда художник и
автор текста – одно лицо. Рукописной? – Но порой она напечатана, хотя бы на машинке. Уникальной? – Но она может быть
тиражной. Культура 70-х годов, породившая это явление в массовом масштабе, наверное, назвала бы такую книгу самодеятельной –
долгое время это слово служило оправданием разного рода маргиналий по отношению к унифицирующей тотальности.
Первая вспышка эпидемии рукописной книги случилась с русскими футуристами. Безусловен
исторический и художественный авторитет их литографированных изданий, в которых они отказались от типографского набора
и текст был написан от руки. Конструктивисты, напротив, эстетизировали массовость, а следовательно, типографику, и даже
набирали изображение, подобно тексту, из элементов наборной кассы – скобок, тире и кавычек. Однако после 1932 года, когда
футуристические издания были последний раз выставлены, различие этих двух подходов к изображению и слову оказалось снято
их совместной ссылкой в сферу неактуального, в магазины случайных вещей. Исторической иронией может показаться выход в том
же 1932 году книги палешанина Голикова «Слово о полку Игореве», целиком переписанной от руки и при этом абсолютно чуждой
«искусству почерка», как понимал его Хлебников. Победа тотального над индивидуальным была уже неизбежна, как наступление
социализма по всему фронту, и попытаться сделать это тотальное приемлемым можно было, прильнув к средневековому канону.
Рукописная книга сохраняется в официальной культуре только в качестве курьеза, который ожидает анекдотическая
судьба: так С.Б.Телингатер выполнил в 30-е годы факсимильное издание бортового журнала экспедиции Чкалова–Беляева–Байдукова,
и один из экземпляров, попавший в Америку, был, по легенде, принят бдительной советской разведкой за незаконную добычу
заокеанских шпионов./1/. Подлинность документа, «здесь и сейчас», свойственные дневнику и рукописи, не могли быть
приняты культурой, склонной немедленно воспроизводить реальные события в виде мифологизированной истории и, как правило,
в форме монументальной книги./2/.
И все же рукописная книга до конца не исчезает, где-то теплится, где -то ютится по закоулкам
культуры. В качестве предмета стилизации она всплывает в тиражной книжной графике с конца 50-х годов, когда неразборчивый
почерк становится обозначением свободного высказывания, аутентичности, уникальности. Но судьбы изображения и текста,
пребывавших в синкретизме в футуристической книге, к этому времени уже разошлись. Самиздат брежневского времени представляет
собой нечто противоположное, не стилизацию уникального, но ручную имитацию тиражного Мы перепечатывали стихи на машинке и
конспектировали книги вручную, мы переплетали журнальные публикации «под книгу» так же, как кто-то вручную шил джинсы
или кисточкой рисовал фотореалистическое изображение, требующее механических средств. Рукотворное в этой культуре часто
кодировалось не как уникальное и потому ценное или, попросту, дорогое, но как недостаточно «сделанное», и порой ценилось
ниже тиражного. И лишь позднее, уже в 80-е годы, машинописная бедность самиздата будет осознана как эстетика, станет
предметом стилизации и, что важнее, предметом художественной рефлексии и анализа. В этот момент и начинается наша история,
выходит на сцену рукотворная книга 80-х годов.
Эти книги – как будто не совсем книги или, во всяком случае, каждый раз не только книги,
каждый раз они есть побочный продукт некоего другого рода деятельности; рисования картинок или безудержного сочинительства,
как у Леонида Тишкова или Юлии Кисиной; театральной режиссуры, как у Резо Габриадзе; делания игрушек, дизайна, мейл-арта;
или «просто» живописи, как у Ирины Затуловской, или «просто» поэзии, как у Льва Рубинштейна, или» просто» концептуального
творчества, как, скажем, у Юрия Лейдермана. Все эти книги – некие ответвления, и пестрая картина совсем не похожа на узнаваемый
облик рукописной книги футуристов. Другое, не столь очевидное отличие заключается в том, что перед нами отнюдь не плоды веселого
и азартного коллективного творчества, но, как правило, результаты аутистских «приватных занятий», создающиеся наедине с собой, часто
из своих собственных текстов и замкнутые сами на себя. В этих книгах мало эпатажного, потому что им некого было эпатировать:
они окружены аурой одиночества.
Поэтому и авторы их предстают как одинокие, отдельные фигуры, равновеликие в своей уникальности. Такая равновеликость
возможна, если они в своей книжной деятельности стоят «в чистом поле», игнорируя всякий контекст. Бессмыслены сравнения,
если каждый выступает как чудак, живущий в замкнутом пространстве собственных законов и критериев и под своей Книгой
понимающий нечто вполне особенное и не поддающееся коммуникации.
Здесь художник – изобретатель велосипеда, начинающий с нуля и не знающий /как будто бы, а то и в самом деле/ о том, что делалось
до него и делается рядом. Поэтому у рукотворной книги /по крайней мере, русской/ нет истории. Она представляет собой пунктир,
отдельные вспышки, а не непрерывную традицию.
Но так обычно бывает, когда речь идет об искусстве утопического типа; и «велосипед» наших авторов – это, скорее,
вечный двигатель, а их книги очень часто принимают на себя роль обломков универсальной системы, псевдофилософии /подобной
«теории Даблуса» Тишкова/. Книга как «всё», заключающее в себе свои начала и концы, – это утопия уникального произведения в мире
тиражированного искусства конца 20 века.
В своей знаменитой, столь исторически прозорливой статье Вальтер Беньямин показал, что уникальная ценность подлинника
основывается на включенности его в ритуал, пусть даже секуляризованный. Тиражированное искусство неизбежно оказывается столь
же тесно связанным с политикой./З/. Беньямин, разумеется, пишет о визуальном искусстве. Возможность уникальной, нетиражированной
книги им просто не рассматривается: Гутенберг совершил необратимое. Очевидно, что в контексте культуры 20 столетия такая книга является
чудовищным анахронизмом, осуществляющим, если прав Беньямин, резкий возврат к ритуалу и демонстративный отказ от политики. Создание
уникальной книги, книги для себя, в отличие от самиздата как формы «хранения и распространения», поэтому почти всегда является жестом
аполитическим и асоциальным, и всегда – жестом ритуальным и мифотворческим. Очень тонкий вариант такого жеста – одна из книг Хамида
Исмайлова, которая представляет собой газету, датированную днем его рождения, но все материалы в ней подменены его собственными
концептуальными текстами. Здесь хорошо видно, что в центре мифа уникальной книги оказывается фигура ее автора.
Традиционная книга распределяет вокруг себя четкие роли – писателя, художника, наборщика, читателя, продавца, коллекционера.
У уникальной книги часто бывает только один автор, Бог своей книги, ее мифологический творец и главный читатель, провидящий книгу
от начала до конца. Все жесткие правила, с которыми связано создание типографической книги, он вправе игнорировать: перед ним, буквально,
чистая страница, поле абсолютной свободы для размещения заголовков и строк, но и для внесения в книгу всего-чего-угодно, если книга
предназначена прежде всего для самого же автора. В тяготении к созданию уникальных книг есть нечто от мании величия.
Идеальный образец такого автора и его детища невольно описывает Леонид Тишков, как давний
собиратель и ценитель рукодельных книг. Описывает главным образом своим скрытым недоверием к некоторым вариантам работы художника
с книгой. Так, он не вполне доверяет книгам, расчлененным на текст и иллюстрации: для него желательна их архаическая целокупность,
неопределенная слитность, подозрителен для него профессионализм: книга не может быть занятием, она должна быть образом жизни,
ритуалом – большим, чем просто искусство. И наконец, существенно то, что он категорически не доверяет объектам, использующим и
имитирующим форму книги. Что же здесь так неприемлемо?
Похоже на то, что для Тишкова принципиально наличие в книге /универсуме, мифологическом космосе!/ –
внутреннего пространства, мира, открывающегося за обложкой; он полон скептицизма по отношению к художникам, занятым переплетами книг,
но совершенно открыт к визуальной и пространственной поэзии, вообще не имеющей ни обложек, ни переплетов. Как тут не вспомнить,
что перелом от футуризма к конструктивистской книге был связан с доминированием именно обложки, представлявшей собой разновидность
плаката – апофеоза коммуникативности. Книга 80-х годов, как правило, интровертна, поскольку не предназначалась к печати. Не являются
исключением и те малотиражные издания, которые выходят в последние годы, например, в издательстве «Даблус». Тираж был воспринят
художниками как новая техническая возможность сделать что-то более аккуратно, чем это получилось бы от руки, как некое облегчение от
трудов, а отнюдь не как возможность распространения текста./4/. Количества экземпляров должно хватить для друзей автора, и этого будет
совершенно достаточно.
Чтоб оценить всю специфику ситуации с авторской книгой в бывшем СССР, нужно вспомнить об ее аналоге,
существующем с давних пор на Западе, – так называемой «livre d’artiste», традиции, идущей от издательской деятельности Воллара и, позднее,
Ильи Зданевича, для книг которого рисовали Арп, Миро, Пикассо, Матисс и многие другие. Относительная уникальность /то есть малотиражность/
«livre d’artiste» есть результат здравой коммерческой идеи /или, что то же самое, идеи коммуникативной/. И уникальность эта ориентирована
на подлинность произведения пластического искусства, имеющего в принципе такую ипостась, как «оригинал». Совершенно в ином смысле бывала
уникальна книга в СССР.
Пожалуй, именно сейчас, в последние годы, Кастаньеда и «Прогулки с Пушкиным», Платонов и «Доктор Живаго»,
Хармс и Кортасар, Солженицын и Карнеги – все, что мы читали в изданном и неизданном виде на протяжении последних двадцати лет, –
начинает выстраиваться в хоть сколько-нибудь цельную иерархическую картину. Мы стали понимать, что к чему. Но тогда, в 70-е и 80-е
годы, книги, попадавшиеся читателю в качестве самиздата или случайного подарка со стороны издательства «Прогресс» или журнала
«Иностранная литература», представали абсолютно одинокими, не связанными между собой вершинами. Целостной картине просто негде было
существовать – не на пустых же полках книжных магазинов, не в цензурованном же библиотечном каталоге. Не будучи фактом общественного
сознания, книга была фактом сознания личного.
Чтение представляло собой факт присоединения к точке зрения автора, вступление в тайное братство Прочитавших: читали лишь те
книги, которым верили. Того, что презирали, над чем смеялись, как правило, не читали. Культура не знала Другого и была
зациклена на себе. А чтение – идентификация с мыслью, к которой и так были готовы, которую и так знали, – превращалось в безусловное присвоение,
выражавшееся порой буквально – в переписывании понравившегося текста от руки. Вот она, потребность в своей книге, в истинной книге,
та же потребность, что заставила многих из наших героев взяться за ручку, бумагу, нитку и клей.
Многие тексты для читателей существовали как бы до знакомства с собственно текстом: в устном предании,
в плохом переводе, в критическом разносе на страницах реферативного сборника. Но даже и словно вне текста вообще: известный анекдот
про человека, разбрасывающего пустые листовки, потому что «все и так понятно», довольно точно отражает культурное сознание эпохи.
Книга действительно была у каждого в голове. Бартовский «поток текста» был локализован не в стихии свободного языка, а в тесноте мышления.
Для искусства реально это стало означать резкий разрыв между книжной графикой как областью пластического
творчества и единственным источником дохода для многих художников – и книгой как предметом чтения, где и осуществлялось утверждение
своего «я». В идеале это чтение и должно было совпасть с деланием «своей» книги. Среди рукотворных изданий немало опытов прочтения,
переписывания, инсценировки, как будто примеривания на себя чужого авторства. Так, Сергей Якунин читает Хармса и Платонова, а
Марина Перчихина – «60 строк из дневника Гройса». Дневник – это, действительно, модель Такого произведения, в котором восприятие
и есть творчество. Дневник словесный или изобразительный есть текст принципиально раскрытый и находящийся в становлении, взятый изнутри,
с точки зрения автора, и потому не обремененный окончательностью, органически включающий в себя ошибки, исправления и прочий шум.
Поток текста, живущий в сознании.
Весьма редко этот поток открыт для прочтения. Говоря откровенно, ни одну из этих увлекательных
своей пластической интригой книг не хочется читать, а некоторые и невозможно. И, пожалуй, это ощущение важно. Классическая книга
построена на огромном количестве условий и ограничений, единственная цель которых – сделать текст максимально удобочитаемым.
Читатель здесь главный. Текст, не ориентированный на читателя, этими правилами пренебрегает, но дело не в реальной неразборчивости почерка.
Это книги, замкнутые на себе и не готовые к коммуникации. Это разговор с самим собой. При этом издания эти насквозь текстуальны.
Крепчайшее объятие слова и изображения, которое делает столь органичными книги Ларионова, давно разомкнулось.
Здесь даже изобразительная часть является родом текста, суммой знаков или аффектированным нарративом. И тяга к книге как к форме
выражения своего мироощущения, как правило, выдает принадлежность художника к орбите постконцептуального искусства.
Авторская книга 80-х годов находится поэтому в том же ряду, что и выставки апт-арта. Она есть то же
по отношению к более раннему «настоящему» самиздату, что и апт-арт по отношению к квартирным выставкам предыдущего поколения:
рефлексия, эстетизация, анализ и инсценировка экзистенциальной реальности. Не столько сама утопия, сколько работа с ней.
И последнее: по известному определению Фаворского, книга есть пространственное выражение временной
длительности. Создание рукотворной книги требует времени, требует праздности. А цель художника – устройство места для текста,
своего угла, где бы не мешало чужое соседство. Отдельной квартиры для одиноких, но свободных слов и мыслей. Так что, авторская,
уникальная, самодельная книга 80-х годов – есть прежде всего памятник эпохе, у которой было очень много времени и очень мало пространства.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Эту историю, как и многое другое, любезно сообщил мне Ю.А.Молок.
2. В.Паперный упоминает книгу «Как мы строили метро», вышедшую одновременно с открытием первой линии Метрополитена.
– Вл.Паперный. Культура «два». – Ардис, Анн Арбор, 1985. С. 35.
3. Вальтер Беньямин. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. –
Киноведческие записки. – M.,1989, №2.
4. См., например, интервью Л.Тишкова в журнале «Декоративное искусство» № 9,1991. С.16.