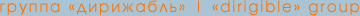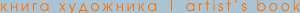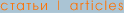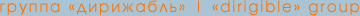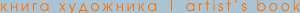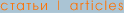«Рукодельная книга» / так заведомо неточно назову это явление, отчаявшись найти эпитет,
способный вместить в себя его разноречиво несогласуемую пестроту/ возникла в начале века, и возникла совершенно не случайно.
Конечно, явилась она не на пустом месте: прообразы ее можно увидеть и в дамском альбоме, и в любительском микротиражном издании,
выпущенном для самоуважения, и в рукописных журналах лицеистов и гимназистов /если это и натяжка, то не сильная, и Эль Лисицкий не
зря считал участие в выпуске подобного альманаха своей первой работой по оформлению книги/. Но рожденные бытом, они бытом и оставались.
Правда, был еще Уильям Блейк. Тот в самом деле оказался дальним предтечей Михаила Ларионова и Наталии
Гончаровой, но предтечей нечаянным, почти вынужденным, – свои изумительные книжки он делал в силу жизненных условий.
Иное дело, что как выдающаяся личность он сумел обратить стесняющие обстоятельства в преимущества и извлечь из них творческие стимулы.
Однако именно в начале нашего века обращение к «рукодельной книге» было осознанным и принципиальным
и принесло весомые художественные результаты.
Среди причин, побудивших авангардистов обратиться к книге, обычно называют потребность по-новому решить
вопрос о взаимоотношениях слова и изображения. Вряд ли этим исчерпывалось дело – для того хватило бы и плоскости холста с введением
в живопись надписей, использованием коллажа.
Скорее всего, книга привлекла их как новое поле с новыми /и трудными / условиями игры.
Книга – это четко и закономерно организованная рациональная структура, гораздо более жесткая, чем холст или лист бумаги.
Овладеть ею и перестроить на новых основаниях /при том, чтобы она продолжала оставаться книгой/ – такая перспектива не могла
не соблазнить авангардистов, жаждавших расширения творческого пространства.
Сходные возможности могла предоставить и архитектура, старшая сестра книжного искусства, но та выдвигала
препятствия практического характера. Время «бумажной архитектуры», дерзновенных проектов, которые никогда не будут осуществлены,
да и не для этого создаются, еще не приспело. Книга была несравненно доступнее, ее можно было изготовлять самостоятельно,
с помощью любой захудалой типографии или литографии или даже вручную, с помощью бумаги, пера и ножниц.
Если авангардисты были подготовлены к вторжению в книгу самой логикой своей деятельности, подталкивавшей
к расширению пространств творчества, то и книга, в свою очередь, дошла до такой ступени развития, когда сама стала провоцировать
подобные попытки.
В своих первоначальных формах книга была рукотворной и уникальной.
Технический прогресс шаг за шагом лишал ее этих качеств, и она все более удалялась от творящей личности.
Два события были решающими – переход к машинному набору и к фотомеханической репродукции. Изобретенные еще в прошлом веке,
они именно в начале нашего стали явно определять лицо книги.
Машинный набор гарантировал полную идентичность знаков и идеальную прямизну строки; геометричность растра
отменяла рукотворность репродукционной ксилографии /конечно, по-своему тоже механичную, если приглядеться пристальнее/.
Книга наконец обрела ту регулярность, к торой стремилась на протяжении веков.
Именно тогда и смогла возникнуть известная тирада Велимира Хлебникова о литерах, которые
«вытянуты в ряд, обижены, подстрижены и все одинаково бесцветны», а немного раньше – проклятие, которое Василий Розанов посылал
Гутенбергу, «облизавшему своим медным языком всех писателей». Высказывания эти, нет слов, звучат наивно, но и придираться не
стоит, потому что в них содержится не объективное суждение, а эстетический манифест.
Осознанный антипрофессионализм, по выражению Юрия Герчука, авангардистской книги был направлен не
столько против книги «роскошной», как принято порой считать, хотя и против нее тоже, сколько против книги «цивилизованной»,
продукта машинной технологии. Таким образом, по своей идеологии бунт этот был типично «романтическим», как ни неожиданно употреблять
этот эпитет по отношению к футуристам, раскрашивавшим себе лица и затевавшим скандалы в общественных местах.
Надо ли напоминать, что эстетика регулярности, даже механистичности, – отнюдь не антиэстетика, как
это трактует «романтическая» точка зрения, а просто иная эстетика, выработанная в иных условиях и для иных целей, чем та,
которую можно условно назвать традиционной, и к искусству книги это относится самым прямым образом.
Все формы книжной работы авангардистов были разными проявлениями бунта против современной им книги
– и разными степенями вынужденной компромиссности этого бунта.
Проявлением крайним и, естественно, очень редким, была книга, полностью сделанная вручную, в
одном, много – двух-трех экземплярах, то есть совсем не имеющая тиража. К ней близка была книга, сделанная с помощью примитивных
механических средств, вроде резиновых штемпельков или гектографа: тут подобие тиража возникало, но лишь подобие, потому что
экземпляры не могли быть идентичны друг другу.
Более компромиссной была книга, тиражированная в точном смысле слова, отпечатанная с
гравировальных или литографированных форм, пусть и в небольшом количестве экземпляров. Но эти печатные формы – не только изображения,
а и текст /«самопись»/ – все-таки исполнялись вручную самим художником и не несли в себе обезличивающего отпечатка техники.
Кроме того, каждый экземпляр мог быть превращен в уникальный с помощью ручной обработки – раскраски, коллажа.
Наконец, опыты с набором опять-таки ставили целью взорвать привычную регулярность книги.
Искусство, кажется, единственная область деятельности, в которой «романтические» побуждения
могут привести к успеху, в отличие, скажем, от политики или экономики. Деятельность авангардистов принесла ряд превосходных произведений
– это и есть успех. Однако попытка реформировать книжное искусство не осуществилась, да и не могла осуществиться. Правда, чрезвычайно
плодотворно оказалось влияние авангардистских опытов на книжную графику. Примеры этого влияния давно хрестоматийны. Все же, рискуя
остаться в меньшинстве, замечу, что преувеличивать его не стоит. Мощное в 20-х годах, оно заметно слабеет в 30-х, а в дальнейшем угасает,
становясь все более опосредованным и плохо различимым, а порой и просто теряясь. Судьба Яна Чихольда, проделавшего удивительную эволюцию
от крайностей бунтарства до крайностей традиционализма, в этом смысле очень показательна. Книга осталась довольно устойчивой структурой
по отношению к попыткам вмешательства в нее /не удержаться от сравнения с живописью, все еще содрогающейся в конвульсиях постмодернизма/.
Но что несомненно, так это то, что опыты авангардистов положили начало существованию «рукотворной книги», отныне
осознаваемой как вполне самостоятельное явление. Существование это то угасало, то расцветало /как сейчас/, то ютилось в интимно-камерной
схеме, то рвалось на просторы общественного признания /как сейчас/. И надо заметить, что далеко не всегда оно было прямо связано с собственно
авангардистской традицией. Очевидно, что мы имеем дело с альтернативным книжным искусством, которое существует параллельно с основным
/«большим»/ и на несколько иных основаниях – избираемых самим автором, а значит, и более комфортных для его самовыражения /что, впрочем,
имеет и оборотную сторону/. Оно зиждется на тех же романтических основаниях, что и разведение скаковых лошадей, и постройка парусных яхт
в эпоху автомобилей и судов на подводных крыльях. Оно взаимодействует с «большим» искусством – учась у него, противодействуя ему и,
возможно, временами само влияя на него.
Учитывая исторический опыт, постараемся не преувеличивать возможности такого влияния. С одной стороны,
искусство книги само уже накопило обширный и универсальный опыт для решения любых возникающих перед ним задач. С другой – новаторство
современной «рукодельной книги» – будем честны – не столько открывает, сколько продолжает уже открытое в начале века, в чем, правда,
нет ничего удивительного и ничего обидного: такова судьба любого из искусств в нашем веке.
Главный смысл его не в «новаторстве» как в сумме неких изобретений /боюсь, что нового уже не изобрести/,
но в конкретных художественных результатах – в создании пластических и смысловых ценностей.
Поскольку технический прогресс бесконечен, а психологическое противостояние ему, очевидно, неистребимо,
можно было бы уверенно предположить, что мирный поединок «большого» и «малого» искусств продлится бесконечно.
Так и есть, но некоторые тенденции этого прогресса, которые обнаружились в последние годы и вряд ли могли быть предвидены
в начале века, вносят в их отношения новый оттенок парадоксального свойства.
В самом деле, дальнейшая эволюция производства книги, редакционно-издательских и полиграфических процессов
привели к тому, что изготовление книги легко может быть отделено от «производства» в привычном смысле слова /с громадными цехами и лабораториями,
грохочущими станками/ и перенесено в домашние условия.
Компактная и легкая в обращении техника, доступная современному человеку не менее, чем перо и чернильница
средневековому переписчику, позволяет соединить в одном лице автора /художника/, издательство и типографию. Иными словами, книжное дело,
совершив диковинную параболу, возвращается к творящей личности, позволяя ей работать без армии безразличных и безличных посредников.
Уточнение по поводу того, что это не полиграфия, а «малая полиграфия» или вообще никакая не полиграфия,
а множительная техника, – не более чем схоластическая уловка. Никому нет дела до того, что Мария Розанова собственноручно, не покидая
своего дома, изготовляет журнал «Синтаксис», равно как и книжки Резо Габриадзе, которые уже не впервые и, очевидно, по праву, появляются
на выставках. Разница, в сущности, только в тираже, а тираж подвластен нашему желанию или материальным возможностям.
Художники, жаждущие самовыражения в книжном искусстве, судя по практике последних лет, охотно ухватились
за эту возможность и не задаются схоластическими вопросами. Думаю, что они правы.
Здесь можно было усмотреть коварную усмешку технического прогресса, подставляющего автору
/художнику/ то, от чего он не в силах будет отказаться, даже поступившись частью своих «романтических» иллюзий. Но можно
отыскать повод задуматься над тем, что наши такие привычные представления об извечном конфликте между художником и техникой, в
сущности, продиктованы исключительно условиями индустриального общества. Общество доиндустриальное их не знало, а общество
постиндустриальное – оно, по-видимому, не узнает и, может быть, в скором времени окажется способным выдвинуть такие технологии,
которые этот конфликт снимут полностью.