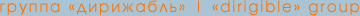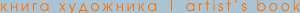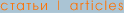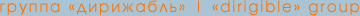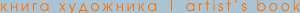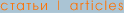Вообще, пишущий художник – явление для 20-го века нередкое.
Это не только бесчисленные теоретические труды, манифесты, мемуары, рассказы о «тайнах ремесла», но и собственно
«художественная литература» – поэзия и проза. Истоки такого интереса художника к литературному творчеству опять же можно увидеть
в начале века, когда поиск новых форм выражения приводил к размыванию границ между различными видами искусства: литератор,
как уже говорилось, выступал в качестве художника, а художник начинал писать. «Моя поэзия завела меня так далеко, что я начинаю
опасаться за свою живопись… А что, если я вдруг с живописи перейду на поэзию?» (художник-футурист Ольга Розанова, иллюстрировавшая
авторские сборники Хлебникова и Кручёных).
По отношению к литературным занятиям художников обычно принято проявлять
некоторую снисходительность. С другой стороны, художник, серьёзно работающий в жанре экспериментальной авторской книги, как правило,
начинает испытывать соблазн написать самому. К этому подталкивает его сама идея книги как синтетического объекта. В конце 40-х
в своей книге «Джаз» Матисс, сказавший когда-то, что живописец «должен первым делом вырвать себе язык», сопровождал свои красочные
композиции рукописными страницами собственного сочинения. Правда, при этом ещё смущённо оговаривал их роль как чисто зрительную.
Спустя полвека уже никому не приходит в голову смущаться по этому поводу – изобразительное искусство становится всё более «разговорчивым».
К литературным опусам приводит художника и интерес к визуализации слова, визуальной поэзии, знаковым системам, и острая реакция на современный
прагматический, утилитарный подход к слову как носителю информации. Вообще, русский художник традиционно «литературен».
Довольно близки нам и традиции Востока, где общее происхождение письменности и изобразительного искусства никогда не забывалось (…)
Именно эта практика в 90-х давала наиболее интересные результаты.
Не случайно, что «книга художника» многими рассматривалась исключительно как территория, где авторами реализуются художественные
проекты, рассказываются собственные истории, разворачивается личные «мифологии». Показательны в этом контексте и названия некоторых
выставок последних лет: «Книга как проект. Истории художников с Востока», «Странствующая библиотека книги художника и поэта».
Такой подход наиболее последовательно реализуется в работах Леонида Тишкова, Евгения Стрелкова, Михаила Погарского, Андрея Суздалева и др.
Возникающие тексты, практически не будучи включёнными в «литературный оборот», существуя как бы параллельно ему, тем не менее читаются
зрителями на многочисленных художественных выставках, а после неоднократно цитируются, т.е. участвуют в обороте информационном.
Видимое противоречие разрешается достаточно безболезненно как раз благодаря ненавязчивому ускользанию такой книги из-под «литературного
бремени» – оставаясь «книгой для чтения», artist’s book примеряет на себя современное (привлекательное своей расплывчатостью) определение
«информационного объекта». Наиболее откровенно этот подход декларируется у Николая Селиванова: «Этот аспект – книга как модель, как
прототип новых информационных объектов – придаёт необычайную актуальность… «книге художника», где развиваются новые… методы представлять,
хранить, соотносить, интерпретировать, генерировать информацию» (…)
04
Завершая краткий конспект пройденного, я предпочитаю воздержаться здесь
от прогнозов – в каком направлении будет развиваться то, что мы называем artist’s book. Вопрос о соотношении художественного слова и
художественного жеста в «книге художника» по-прежнему открыт для всех участников этого «приключения». Но как раз в этом я вижу залог его продолжения.
Уже сегодня видно, как многие заслуженные и проверенные концепции и стратегии начинают «пробуксовывать». Тем лучше – мы создадим новые,
чтобы снова от них отказаться. И это, в первую очередь, будет зависеть от того, какая роль будет отведена книге в ближайшем обозримом будущем в
системе новой информационной культуры. Впрочем, это уже тема для отдельного разговора…
Москва 2004