
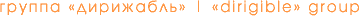


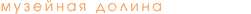


 |
|
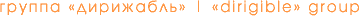 |
 |
|||||
 |
|
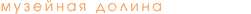 |
||||||
 |
|
 |
ВОСПОМИНАНИЯ
А та панацея от всякой скуки, которая у всякого саратовца была всегда под рукой! Наши саратовские калёные семячки...
Обычно семячки приобретались на Верхнем базаре в специальных лавках по нескольку фунтов зараз, а то и по пуду.
Необходимо отметить, однако, что в те ещё непросвещённые светом истинного коммунизма
времена, грызение семячек на улице и днём считалось занятием весьма вульгарным, почему саратовская аристократия
(которой я, впрочем, никогда и в глаза не видывал), если уж пагубная страсть и брала верх над чувством приличия,
то предавалась ей украдкой, оглядываясь по сторонам... Но зато прочие граждане Саратова, свободные от ига условностей, грызли с каким-то
ожесточением без различия пола, возраста, времён года, суток и прочих обстоятельств; грызли ходя, стоя, лежа, сидя.
Догрызались до типунов на языке и тогда с остервенением и проклятием отодвигали от себя подальше соблазнительную кучу
проклятого лакомства, но через несколько секунд рука привычным жестом тянулась к отодвинутой от соблазна кучке и семячко
за семячком... начиналось опять безостановочное их истребление.
Особенно много выходило этого добра по вечерам, когда по окончании дневных трудов и
забот население дворов высыпало на улицу подышать сравнительго прохладным воздухом, поглазеть на редких прохожих...
По утрам около каждых ворот можно было наблюдать целые вороха шелухи, быстро потом развеваемой ветром или затаптываемой
прохожими в грязь.
Своеобразный саратовский шик требовал особого способа грызения: семячки не клались в рот,
а бросались, шелуха не выплевывалась, а для сбережения энергии и времени быстрым движением языка и соответствующих
мускулов рта выдвигалась на нижнюю губу. Смоченные слюной кожурки не тотчас падали на землю, а налипали одна на другую
и иногда висели с губы довольно большим грузом, пока он от собственной тяжести не отрывался и не падал сам собой.
Люди с высокоразвитым эстетическим чувством едва ли найдут это особенно красивым, но зато быстрота достигалась
поистине изумительная и непрерывное мелькание семячек, бросаемых в рот, и шелухи, выталкиваемой обратно, производили
впечатление прямо потрясающее. <...> То, что теперь так досаждает нам в ветреные дни, и в слабой степени не дает понятия о прежнем
мучении. При малейшем движении воздуха целые облака чёрной мелкой пыли обволакивали весь город. От этой казни египетской
не было никакого спасения. Пыль набивалась в нос, глаза, уши; хрустела на зубах во время еды; пока вы пили стакан чаю,
на блюдце успевал накопиться осадок грязи. От пыли не спасало ничто: при закрытых наглухо окнах на подоконники
наносило целые её сугробы...
Пасха несла с собой исключительное и только ей свойственное удовольствие, а именно так
называемые качели. Не обыкновенные качели, которые были на каждом порядочном саратовском дворе и целодневным своим
скрипом могли довести до истерики нервного человека, а особенные. Собственно говоря, под словом «качели» (в пасхальном смысле)
у нас объединился целый ряд устройств и учреждений, преследующих одну и ту же цель – развлечение саратовского населения.
Ещё со страстной недели та часть Московской площади, которая расположена между «жёлтыми»
казармами и острогом, начинала застраиваться многим множеством сколоченных на живую нитку балаганов. Центр площади занимался
каруселями и так называемыми перекидными качелями.
Первый день Пасхи, после разговения, все предавались отдохновению и площадь оставалась мёртвой.
Но с утра второго дня весь Саратов нескончаемыми вереницами пёстро разодетого народа в светлом и приподнятом настроении двигался
под «качели». Дома оставались лишь те, кто не мог покинуть одра своего из-за телесных немощей, да те, на долю кого выпал
жребий охранять покинутые жилища.
...Некоторую особенность, как мне кажется, представляло наличие многих десятков, если не сотен,
саратовских гармошек. Те, кто считает её музыкальным инструментом, делают большую ошибку: саратовская гармошка, во всяком случае,
орудие пытки, а не источник художественного наслаждения. Она лишь в очень отдалённой степени напоминает те субтильные и деликатные
гармошки, которые можно было приобрести в музыкальных магазинах.
Почти квадратная коробка и приспособление для ладов делались из довольно толстых дощечек самой
твёрдой породы; голоса из солидных стальных пластинок; меха оклеивались хорошим сафьяном. В конце концов получалось сооружение
несокрушимой прочности, и владелец его мог не только услаждать свой слух и терзать чужой таким чудищем, но и с успехом пользоваться
им, как наступательным орудием, в схватках с неприятелями. Пронзительность превосходила всякое вероятие, а для полноты впечатления
к гармошке пристраивались ещё два звончайших колокольчика, неистово звеневших при каждом нажиме на басовые лады и составлявшие
своеобразный, хотя и нельзя сказать, что приятный, аккомпанемент.
Никакой гул и шум многотысячной толпы под качелями, никакие крики торговцев и зазыванья из
балаганов не могли заглушить гармошки. Задорные переборы как ножом прорезывали все посторонние звуки и отчаянно взлетали к
голубому весеннему небу. Нечего и говорить, что ребятам под качелями было полное раздолье. На пятиалтынный или двугривенный, подаренный к празднику, можно было напиться и наесться всякой дряни, досыта навертеться на качелях и насмотреться в балаганах... Но Пасха берегла, главным образом для ребят, и ещё одно, только ей свойственное, удовольствие. Заключалось оно в свободном доступе на все колокольни и в праве звонить во все колокола. Особенно приятно было после долгих, иногда соединённых усилий, раскачать язык большого соборного колокола. Немало драк было у нас на колокольнях, особенно если приходилось забираться на Горы, где в то время всякий пришелец из города рассматривался как лютый враг. <...> «Галах» – термин чисто саратовский. Во времена моего детства употреблялась не только нынешняя
сокращённая форма – галах, но и полная – галаховец. Галаховец у нас то же, что в других местах босяк.
Произошло это название так. Лет сто тому назад, то есть в первой четверти XIX в.,
богатый помещик Галахов имел дом на Московском взвозе против старой семинарии. После смерти Галахова (или, может быть,
отъезда) дом стал сдаваться под квартиры, сначала весьма приличным людям, а затем, по мере того, как дом без ремонта
ветшал, квартиранты становились всё серее и серее. Кончилось тем, что дом Галахова обратился в ночлежку,
а клиенты ночлежки получили по дому титул галаховцев.
Толкун собирался каждый воскресный и праздничный день на площади около Старого собора <…>
Пеший базар в моё время помещался там, где теперь расположен сквер около Старого собора.
Площадь, покрытая сквером, была занята несколькими рядами дряннейших деревянных лавчонок, а всё пространство
между лавчонками и кругом них залито огромной толпой, толкавшейся в невообразимой тесноте взад и вперёд.
Бывало, подходишь к базару и уже от Б. Сергиевской улицы слышен глухой шум, несколько напоминающий шум морского прибоя.
При большем приближении однообразие шума начинает нарушаться: из него выскакивают, как пузыри на
гнилом болоте, отдельные выкрики, а вместе с тем обоняние весьма неприятно начинает убеждать, что недалеко скопище крепко
пахнущего русского народа. Но чтобы понять всю прелесть этого скопища, нужно было углубиться в него: тогда гвалт и вонь
делались поистине невыносимыми. <…>
Среди толпы, прямо на полу, многочисленные торговки предлагали неприхотливому
обывателю свои немудрые товары <…>
…в Песковском переулке, соединяющем Часовенную улицу с Валовой, производился и торг особого рода.
Когда вы входили в этот переулок, то ваш слух поражался, особенно после базарного гвалта, звуками совсем особого рода.
Весь бесконечный забор, составлявший одну сторону переулка, был увешан клетками разной величины и вида, где прыгало, чирикало,
трещало и пело многое множество всякого рода пернатой твари.
Соответственно товару была и публика, толпившаяся около забора с клетками: охотники и
знатоки своего дела. Всё это кричало, божилось, горячилось, хлопало по рукам, спорило и т. д. с чисто охотничьим азартом.
В толпе между ног взрослых шныряли мальчишки с клетками, сетками и особенно с голубями. Впрочем, настоящие голубятники
предпочитали заседать и обсуждать свои важные дела в так называемом Галчином клубе, грязнейшем трактире, помещавшемся в низком,
старом, одноэтажном доме на углу Песковского переулка и Валовой улицы.
…самое вскрытие Волги, пробуждение её от долгого зимнего сна, являлось картиной,
на которую стоило посмотреть не только от скуки захолустного житья <…>
А вскоре после вскрытия начинали с не меньшим нетерпением ждать первого парохода снизу.
Пароходы сверху почему-то мало всех интересовали, но прибытие их с низовьев вызывало сенсацию и долго обсуждалось
на все лады. С первыми пароходами прибывала вобла, и начиналось паломничество на берег для покупки этого продукта.
В мае месяце под Казанским взвозом открывалась ярмарка, также привлекавшая толпы скучающих
обывателей. Откуда-то сверху приходили пять – шесть баржей, гружённых главным образом простой посудой: горшками,
бадейками (то есть кринками для молока), блюдами, тазами etc, а также и так называемым горянским товаром – поделками
из дерева. Но вместе с этим приходило немало и иного товара, более привлекательного для ребятишек. Я говорю про
простонародные игрушки из глины и дерева вроде свистулек, кузнецов, колясок и коняшек, а также салазок.
Сласти тоже не были забыты, и казанские, окованные белым железом, сундуки приходили
не пустыми, а наполненные до краёв вяземскими пряниками, несравненными пряниками, сплошь пропитанными фруктовым соком
и густо посыпанными сахарным песком <…>
Баржи устанавливались поперёк течения, носом к берегу и настолько близко друг к другу,
что, попав по сходням на одну из них, затем можно было без труда обойти все, не сходя на берег.
…родная Волга предоставляла в распоряжение саратовцев и ещё одно постоянное и даровое
развлечение. Заключалось оно в том, что ходили глядеть на пароходы. Не в пример советским временам доступ на них
не возбранялся никому, а стояли они из-за погрузки дров у пристани подолгу. Поэтому на каждом прибывшем пароходе
наша публика устраивала нечто вроде гулянья, наверное, сильно надоедая пассажирам. Люди, стоявшие выше известного
мне круга, наслаждались яствами и питиями из пароходных буфетов, находя (и вполне справедливо), что там всё дешевле
и вкуснее, чем в городских трактирах и гостиницах, да и аппетит на свежем воздухе лучше, чем в промозглой кабацкой обстановке.
Неизъяснимое чувство овладевало моей маленькой душой, когда второй гудок (то есть свисток)
напоминал, что посторонней публике пора сойти с парохода, и сильно щемило сердчишко, когда после третьего гудка снимали сходни,
отдавали причалы, рулевой и его подручный истово молились Богу, а пароход медленно начинал удаляться от конторки, оставляя после
себя чувство пустоты и одиночества. Быть может, эти ежедневные сцены ухода пароходов в неведомую даль и были причиной того тоскливого,
но никогда не осуществимого стремления к далёкому и неизвестному, которое характерно для многих из известных мне земляков.
Милый волжский берег старых времён с его грязью, крепким запахом воблы и смолы,
с крепкими ругательствами, толкотнёй и дубинушкой! |