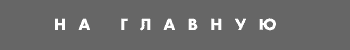 |
|
Рождение города-завода Ижевска ознаменовалось грандиозными для XVIII века геопреобразованиями – город строился в осушенном русле реки, перегороженной 600-метровой плотиной крупнейшего в Европе водохранилища. Для завода требовалась уйма древесного угля, на который шли окрестные леса. Глядя на огнедышащее водопоглощающее чудовище завода, язычники-удмурты бежали прочь целыми деревнями [И.И.Кобзев, 2003]. С другой стороны, город впитывал местный культ повелителя нижнего мира по имени Очш (Иж) – да так, что до начала XX века среди заводских рабочих сохранялось «переходящее из рода в род предание, что Ижевск рано или поздно провалится сквозь землю» [Вятские губернские новости,1899]. Технология, экология, мифология, психология – гремучая смесь, подходящий фон для выставки в Ижевске прогнозов–утопий, прожектов–реформ и отчётов–мечтаний. Для начала нам предъявляют собственные географии: описания воображаемых путешествий [Михаил Погарский. Паломничество пирамид] и дневники реальных и виртуальных странствий [Андрей Суздалев. Finestterra], биографические ландшафты [Леонид Тишков. Сольвейг] и топографические монументы [Ольга & Александр Флоренские. Ижевск], географические эксперименты с собственным телом в качестве навигационного прибора [Миша Ле Жень. Фонтаны; Андрей Суздалев. Reversion] и результаты мысленной аэрофотосъёмки недоступных в обыденной реальности земель [Владимир Смоляр. Америки нет]. Порой карты авторских географий настолько замысловаты, что, кажется, их смастерили, закрепив на лицах спящих художников влажную папиросную бумагу и зафиксировав таким образом следы сновидений [Павел Маков. Фонтан истощения]. Произведения разнообразны по жанру: скульптуры и объекты, графика и фото, перформанс и инсталляция, саунд-арт и мультимедиа, а диапазон влечений художников простирается от любования обыденностью [Константин Батынков. Корабль плывёт] до «присвоения» народного промысла [Ольга Хан. Вологуды] , от поэтической метафоры [Андрей Суздалев. Переправа] до политического памфлета [Евгений Стрелков. Paradise-04]. Обмеры и чертежи дополнены масштабными моделями, где в дюжину квадратных метров бумаги завернуто всё геологическое многообразие мира [Константин Скотников & Леонид Тишков. Дно неба], а в два пуда соли упакована бесконечная вселенная детства [Леонид Тишков. Сольвейг]. От настольных моделей художники порой переходят к натурным и, вооружившись шанцевым инструментом, создают земляную улиту – вселенную на двоих [Игорь Иогансон & Марина Перчихина. Вавилонская яма] и моделируют карту звёздного неба [Олег Лысцов. Созвездия]. Или методично раскапывают четыре квадратных метра ничем не примечательного городского пустыря, выгребая оттуда сотни удивительных предметов [Елена Набель. Археология]. А то вдруг арт-артелью спускаются в ближайший овраг, чтобы не столько описывать его гидрологию и морфологию, сколько регулировать сам ход жизни обитателей этой аномалии [Игорь Сорокин, Александр Башкатов, Игорь Ролдугин, Сергей Левитов, Алексей Трубецков, Александр Гнутов, Александр Милашечкин и другие. Музейная долина]. Внедряясь в публичные пространства, художники не бегут социальных реалий и при всей фантастичности своих проектов неявно визуализируют общественное бессознательное – как его чаяния, так и его фобии. Странность иных работ – лишь реакция на странности нашего бытия, когда архаическая обрядность переплетается с коммунистической патетикой [Анфим Ханыков. Переносной Вечный огонь], советские мотивы придают модным рассуждениям о национальной идее ностальгическую теплоту, смешанную с неловкостью публичной любви [Дмитрий Цветков. Честь Родины], а странное соответствие между формой водохранилища и звуком, извлекаемым ex machina художником, обозначает проблему отношения человека к природе на волжских берегах [Евгений Стрелков при участии Алексея Циберева и Дмитрия Хазана. Сирены]. Порой перевод анализа взрывоопасного социального материала в плоскость искусства во многом понижает градус идеологического противостояния и позволяет спокойнее обсуждать проблемы – ироничность и парадоксальность современного искусства способствуют размыванию политических редутов [Дмитрий Цветков. Честь Родины; Евгений Стрелков. Поворот рек]. В наше время географическая лексика настолько освоена политиками и идеологами, что география стала для художников в их социальной рефлексии привлекательным полем метафор. А универсальность современного искусства, его удалённость от религиозных и партийных доктрин, его актуальность и инициативность позволяют использовать язык искусства в качестве своеобразного межкультурного эсперанто. Евгений Стрелков |
The birth of the factory city Izhevsk was signified by the geological transformations that were grandiose for the XVIII century: the city was built in the dried-out wetlands, on the bed of the river stopped with a 600-meter dam to form the Europe-largest water storage. The factory itself required a lot of coal, which was made of the trees felled in neighbouring woods. Udmuritan pagans ran away from the fire-breating and water-consuming monster of the factory in whole villages [I.I. Kobzev, 2003]. On the other hand, the town absorbed gradually the local cult of the underworld lord called Ochsh (Izh), up to the extent that even at the end of the nineteenth century the factory workers told that sooner or later Izhevsk will fell through the ground [Vyatka Province News, 1899]. Combination of technology, ecology, mythology, psychology is a blasting mixture, fitting background for having here an exhibition of utopic predictions, plans of unrealizable reforms, and stargazers’s reports. To start with, the authors offer new geography: descriptions of imaginary travels [Mikhail Pogarsky, A Pilgrimage of Pyramids] and video logs of real and virtual wanderings [Andrey Suzdalev, Finisterra] , bioscapes [Leonid Tishkov, Solvejg], topographic monuments [Olga & Alexandr Florensky, Izhevsk], geographic experiments with the author’s own body used as a navigation tool [Misha Le Zhen, Fountains; Andrey Suzdalev, Reversion], and the results of mental aerial photography of the lands that are unreachable in mundane reality [Vladimir Smolyar. There is no America]. Sometimes the maps of the author’s geography are so intricate that it seems that they have been taken by putting wet sheets of rice paper on the faces of sleeping artists, thus fixing footprints of their dreams [Pavel Makov, Emaciation Fountain]. The genres of the exhibits are very different: sculptures and art objects, graphics and photoes, performances and installations, sound arts and multimedia, and the range of the artists’ interests spreads from admiring commonness of life [Konstantin Batynkov, And the Ship Sails] to «expropiation» of folk arts [Olga Khan, Vologuds], from poetic metaphors [Andrey Suzdalev, Crossing] to political pamphlets [Evgene Strelkov, Paradise-04]. Measures and drawings are supplemented with scale models, on which the whole geologic varsity of the world is wrapped in a dozen of square meters of paper [Konstantin Skotnikov & Leonid Tishkov, The Bottom of the Sky], and the infinite Universe of childhood is packed into two poods of salt [Leonid Tishkov, Solvejg]. Sometimes the authors pass over from desktop models to full-scale ones, furnish themselves with digging tools, and create a ground spirale: a Universe for two [Igor Johanson, Marina Perchikhina. Babel Hole] and model of star sky map [Oleg Lystsov. Constellations]. Or they perform methodical excavations on four square meters of a meaningless waste land and collect hundreds or amazing objects [Elena Nabel, Archeology]. Or again, they form an artistic cooperative to descend into the nearest ravine, in order not to describe its hydrology and morphology, but to regulate all the life of the dwellers of this anomality [Igor Sorokin, Alexandr Bashkatov, Igor Roldugin, Sergey Levitov, Alexey Trubetskov, Alexandr Gnutov, Alexandr Milashechkin, et al. Museum Valley]. When invading public space, the artists do not evade social realities, and while their projects are so fantastic, they visualize implicitly «the public unconscious»: both its hopes, and its phobias. Strangeness of some of the works is just a reaction to strangeness of our being, when archaic ritualism intermingles with communist pathos [Anfim Khanykov, Movable Eternal Light], soviet motives add nostalgic warmth to trendy expatiations about the national idea [Dmitry Tsvetkov, Esprit de la Patrie], and a strange correlation between the shape of a water storage and the sound produced by the artist ex machina delineates the problem of the Man’s attitude to the nature along the Volga shores [Eugene Strelkov, with participation of A. Tsiberev and D. Khazan, Sirens]. Sometimes the transfer of the analysis of explosive social materials into the plane of art reduces the degree of ideological standoff to a much lower degree, and provides a more peaceful way to discuss the related issues: ironic and paradoxical character of modern art makes political strongholds softer [Dmitry Tsvetkov, Esprit de la Patrie; Evgene Strelkov. Rivers Reverse]. Currently the geographical lexicon is mastered by politicians and ideologists so well, that geography has become an attractive field to be used by artists for growing metaphors in their social reflections. And the universal nature of modern art, its remoteness from religious and party doctrines, its immediacy and initiative makes it possible to use the language of art as a unique intercultural Esperanto. Eugene Strelkov |