|
IX. отрывок девятый, последний. тут много всего…
Слева направо – кошка, собака, птица.
Справа налево – собака, повиливающая хвостом.
Скоро придёт весна.
В одном из своих писем русской императрице Екатерине Великой господин Вольтер, признаваясь, что понял её с трудом, размышляет о свойствах языков:
«Не знаю я Российского языка, но могу приметить из переводу, который изволили Вы мне прислать, что оный имеет такие расположения и обороты,
которых на нашем языке не достаёт. Я не одних мыслей с тою госпожою Версальского Двора, которая говаривала: жаль, что Вавилонское столпотворение
произвело смешение языков, а без того бы весь свет по Французски говорил!» И кончает своё послание несравненной собеседнице следующим замечанием:
«Сосед Ваш Китайский Император Кам-Ги спрашивал одного Миссионера, можно ли на Европейских языках стихи писать? – он в этом сумневался».
Отдай тяжеловесную дань традиционной оде и пиши обо всём, обо всём, что тебя окружает, не боясь покоробить знатоков поэзии грубостью и простонародностью –
всё превращай в поэзию: дорожную пыль, труд крестьян или игры мальчишек…
Воспоёшь победы Императора, воспоёшь красавиц. Скажешь правду в глаза вельможам. Хорошо, послужив отечеству, стать на старости лет отшельником…
Молодого верблюда пурпуровый горб
В изумрудном дымится котле,
На хрустальных тарелках блестят плавники –
Это щедрого моря дары.
Багряна ветчина, зелёны щи с желтком,
Румяно-жёлт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь – икра и с голубым пером
Там щука пёстрая – прекрасны!
От нашего стола – вашему столу. Где Державин, где Ду Фу?
|
|  Однажды, не так давно, я подобрал с пола узкую полоску бумаги и машинально сунул её в карман. Это была этикетка, отлетевшая от левитовской картины.
На ней было написано «Ягодная Ряса в июле в пять часов утра». И помельче: «Тут больше добавить нечего». Три дня я носил её с собой, всякий раз,
извлекая случайно на свет, намеревался вы-бросить, но отчего-то этого не делал. Как-то, достав в очередной раз, я за разговором сложил машинально
эту узкую белую полоску пополам, текстом внутрь (так, что она оказалась вдвое короче), а затем скатал в плотный рулончик – от места сгиба к краям.
Стало похоже на гильзу от мелкашки. Помусолив ещё, я уже вложил её между большим и средним пальцем, чтобы запулить подальше, но выронил на стол,
где она распустилась, будто бутон розы, в центре которого, сливаясь друг в друге, обнимались фигуры «инь» и «ян».
Однажды, не так давно, я подобрал с пола узкую полоску бумаги и машинально сунул её в карман. Это была этикетка, отлетевшая от левитовской картины.
На ней было написано «Ягодная Ряса в июле в пять часов утра». И помельче: «Тут больше добавить нечего». Три дня я носил её с собой, всякий раз,
извлекая случайно на свет, намеревался вы-бросить, но отчего-то этого не делал. Как-то, достав в очередной раз, я за разговором сложил машинально
эту узкую белую полоску пополам, текстом внутрь (так, что она оказалась вдвое короче), а затем скатал в плотный рулончик – от места сгиба к краям.
Стало похоже на гильзу от мелкашки. Помусолив ещё, я уже вложил её между большим и средним пальцем, чтобы запулить подальше, но выронил на стол,
где она распустилась, будто бутон розы, в центре которого, сливаясь друг в друге, обнимались фигуры «инь» и «ян».
Многократно сворачивая и разворачивая этот скудный клочок бумаги, я предался тихим размышлениям о сложности и простоте окружающего нас мира.
Тогда я назвал это действие «прелестью случайного созерцания».
Потом, спустя много лет, какой-то придурок добавил: «…дающего возможность услышать безмолвие вечности».
Получилось тяжеловесно. Но что ж тут поделать – пусть так.
бывает куда тяжелей
Однажды древний философ Чжуаньцзы уснул в саду за чтением трактата. И ему приснилось, будто он – бабочка.
Это состояние было столь головокружительным и лёгким, что он отдался своему полёту – взмывая к солнечным просветам в густой листве,
купался в лучах безмятежного света, порхал и кружился, то вдруг опадал лепестком, то вновь подымался к верхушкам и видел огромное небо.
Только никак он не мог одного – рассмотреть свои крылья: когда он влетал в яркие пространства солнечного света и кружился с золотыми пылинками,
они казались ему прозрачными и невесомыми, когда залетал в глухую тень – прохладными, тёмными.
И вот, проснувшись, философ не мог понять: снилось ли это ему, Чжуанцзы, что он бабочка, или бабочке снится сейчас, что она – Чжуаньцзы.
|
| 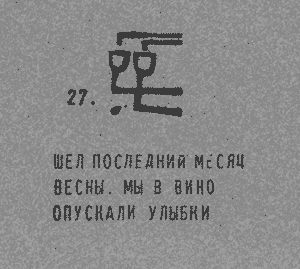 Далее было вот что.
Далее было вот что.
Прошло много веков, прежде чем весною 1918 года, последней своей весною, может быть летом, но точно – после долгой голодной и ледяной зимы,
Василий Васильевич Розанов сделал для себя открытие. Одно на троих.
Было это в Сергиевом Посаде. Он смотрел на ожившую и вечную природу, на ползающих, летающих, порхающих, но почему-то никак не мог взять в толк –
одно ли существо есть гусеница, куколка и бабочка, либо разные:
Тогда, войдя к друзьям, бывшим у меня в гостях, Каптереву и Флоренскому, естественнику и священнику, я спросил их:
«Господа, в гусенице, куколке и бабочке – которое же я их?
То есть «я» как бы одна буква, одно сияние, один луч.
«Я» и «точка» и «ничего».
Каптерев молчал, Флоренский же, подумав, сказал:
«Конечно, бабочка есть энтелехия гусеницы и куколки».
«Энтелехия» есть термин Аристотеля, и – один из знаменитейших терминов, им самим придуманный и филологически составленный.
Один средневековый схоласт прозакладывал чёрту душу, только чтобы хотя в сновидении он объяснил ему, что в точности Аристотель разумел под «энтелехиею».
Но, между прочим и другим, у Аристотеля есть выражение, что «душа есть энтелехия тела». Тогда сразу определилось для меня – из ответа Флоренского
(да и что иначе мог ответить Флоренский, как не это именно?), что бабочка есть на самом деле, тайно и метафизически, душа гусеницы и куколки.
Так произошло это, космогонически потрясающее, открытие. Мы, можно сказать, втроём открыли душу насекомых, раньше, чем открыли и доказали её – у человека».
Потом оказалось, что у бабочки в самом деле нет рта, желудка, кишечника – что за странное бытие? Одно только «таинство небесное» – нектар.
Одно только наслаждение. Одно только блаженство – рай, эдем. Святое таинство: цветы, благоухание, любовь.
Чем цветы представляются для бабочек?
Чем бабочки представляются для цветов?
Что запишет в тетрадку постаревший в одну только зиму чудак трясущеюся рукой:
«Не невозможно, что для каждого насекомого «дерево и цветок», «сад и цветы» представляются «раем»… Да так ведь и есть: «лето, тепло; и – Солнце»,
в лучи которого они влетают; а с цветов – «собирают нектар». Тогда нельзя не представить себе «соединение нектара и души», и что «душа – для нектара»,
а «нектар – для души». (…) Совершенно явно: величина цветов – именно чтобы насекомому войти всему. Тогда понятно, что «растения слышат и думают»
(сказки древности), да и вообще понятно, что они – «с душою»!! О, какою ещё…
Но вот что ещё интереснее: что «сад», вообще всякий сад, «наш и земной», есть немножко и не «наш» и не «земной», а тоже – «будущего», «загробного века».
Тогда понятно! «зима и лето», ибо из зимы и через зиму, пролежав зиму «в земле», зёрнышко «встаёт из гроба». В сущности, по закону, как и «куколка» бабочки.
Таким образом, «наши поля» суть «загробные поля», «загробные нивы». Тогда конечно:
Когда волнуется желтеющая нива…
…То в небесах я вижу Бога.
Вообще понятно особенное и волнующее чувство, испытываемое человеком в саду, испытываемое нами в поле, испытываемое нами в лесу и рационалистически никак необъяснимое».
|
| 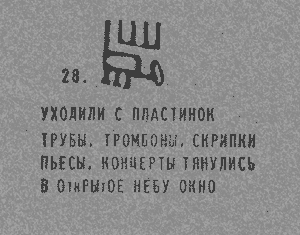 Сад, таинственный храм, священная роща – при-рода.
Сад, таинственный храм, священная роща – при-рода.
Таинственно, через соитие, совокупление, страсти, огонь, все «оргии» – проглядывает: жизнь будущего века.
«Ведь посмотрите, как подозрительно и осудительно ласкаются мотыльки с цветами. Действительно, нельзя не осудить. Но… жизнь будущего века, и… что поделаешь.
Тогда понятно, откуда и почему возникли все «оргии древности» и что «без оргий не было древних религий».
Эх, Василий Васильевич, Василий Васильевич, Василий Васильевич…
Зта продукция ввесла передоное первоначальное лекарство за границу и пройти научное изготовление. зто действенность для убийства таракана,
муравея, вредителя, вошя, комара и муха, моли бабочка и паразита хлеба и одежды. неядовтит для человеки и скоуа, употреблить без опасности.
Ночью, провесуи линию на дороге котором вредиуели воздят. совратить вредители слезть, козффициент убийства достигнуло до 100% в недели. Сделано в КНР
«Конечно, бабочка есть энтелехия гусеницы и куколки», – повторил Флоренский.
Каптерев задумался и сказал: «Открыто наблюдениями, что в гусенице, обвившейся коконом, и которая кажется умершею, начинается после этого действительно
перестраивание тканей тела. Так что она не мнимо умирает, но действительно умирает… Только на месте умершей гусеницы начинает становиться что-то другое;
но именно этой определённой гусеницы, как бы гусеницы-лица, как бы с фамилиею и именем; ибо из всякой гусеницы, сюда положенной, и выйдет вон та бабочка.
А если вы гусеницу эту проткнёте, например булавкою, тогда и бабочки из неё не выйдет, ничего не выйдет, и гроб останется гробом, а тело не воскреснет».
Говоря об этом он так разволновался, стал размахивать руками, изображая вон ту бабочку, жестикулировать и протыкать, что задел ненароком большую вазу,
стоявшую на этажерке в противоположном углу – ваза чуть покачнулась, будто подумав: упасть ей либо обождать? Потом будто встала на место… И так замерла.
|
| 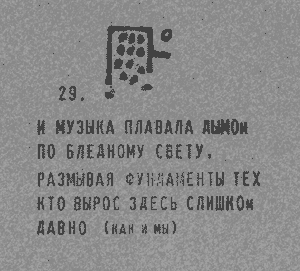 Розанов уж ничего более не говорил. Только думал.
Розанов уж ничего более не говорил. Только думал.
Бабочка – душа гусеницы.
Обо всём этом, правда, знали ещё древние египтяне, оборачивая тела своих умерших в многочисленные пелены – делая кокон для рождения души…
(«Лишь когда всё кончится, мы войдем в полную любовь, в совершенный пир, с яствами и питиями. Но вино наше будет неистощимо, и пития наши –
сладостнее всех здешних, потому что это будет чистая любовь и материальная же, вещественная, но уже как бы из одних лучей солнца, из света и пахучести,
и эссенции загробных цветов. Потому что уж если где цветы, то – за гробом».)
Так что же наш древний философ?
Он проснулся и записал свой сон. Только когда стал писать своё имя, не мог уж припомнить точно: Цзыжуань? Чжуаньцзы? Цзыаньчжу?
С тем и умер…
Небесные розы! Небесные розы!! Олеандры – незабудки, лилии – орхидеи…
Египтяне писали свои письмена в любом направлении, всё равно: снизу-вверх или слева-направо: «извини за длинное послание – не было времени подумать».
Их читали по направлению птичьих шагов. И писали, пока не умели летать.
Они жили тогда.
Там, где никто не читает длинные письма.
«Лучше послать короткую записочку вечерней почтой, чем письмо на трёх страницах утренней», – любил повторять Конфуций.
Маленькие стихи для неторопливого чтения:
Уходит ночь и гасит звёзды,
неясный свет издалека,
и мир как будто только создан,
а жизнь прекрасна и легка.
И соловей сидит в засаде
с веселой целью – разбудить.
Сначала – утро, после сад и
того, кто будет в нём бродить.
Вот мечется шмель и стоит стрекоза,
и хочется, чтоб это действо
продлилось ещё и ещё, и ещё –
вот миг, когда лето раскрыло глаза
настолько, что, кажется, детство
не кончится вовсе, и ты – всепрощён,
и солнца так много, и диким плющом
– звенят голоса по соседству –
увиты навеки единство времён
и гений беспечнейший места.
Только осенью шум листвы
так бывает похож на ветер.
Если прийти к берегу Волги в безветренный солнечный день – уже после морозов (неважно: начало зимы или поздняя осень) – и уронить случайно на тончайшую
поверхность первого льда – он тоньше стекла – льдинку, кусочек сосульки, раздастся звук, которого нет в обычной природе. Как многократное «ц» – горизонтальное эхо.
Электрический звон тишины. Ц-ц-цзин-н-н. Тоньше разбивающегося фарфора. Этот звук придумала Инка, выбросив в Волгу кусочек прозрачной тоски.
Если бросить монетку, поймёшь, что уже не вернёшься. Только звук разойдётся кругами по тонкому льду. Я разбросал – ц-ц-зинн, ц-ц-ц-иннь, цзи-н-н-н-н –
целые гроздья созвездий из белых и жёлтых монет. Чтоб сверкнули на утреннем солнце золотом и серебром.
|
| 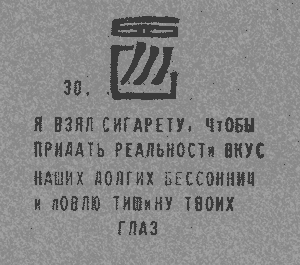 Наверное, потом, спустя снегопады, оттепели и морозы (неважно: в начале весны или уже в середине), когда вдруг разверзнется с треском и грохотом –
льдина на льдину – глухой «небосвод реки» и белые глыбы поплывут не спеша облаками, начнётся и мой звездопад – за Увеком, за Красноармейском. Царицын и Астрахань.
Наверное, потом, спустя снегопады, оттепели и морозы (неважно: в начале весны или уже в середине), когда вдруг разверзнется с треском и грохотом –
льдина на льдину – глухой «небосвод реки» и белые глыбы поплывут не спеша облаками, начнётся и мой звездопад – за Увеком, за Красноармейском. Царицын и Астрахань.
Я никогда не вернусь.
Только три строчки огромного, как Китай, стихотворения на память.
Между любовью и снегом.
Пейзаж души похож на облака…
которым можно улетать, клубиться,
сгущаться в тучи – в ливни и снега –
и после падать, чтобы возноситься.
Там высоко, смотри, есть берега
и – против солнца – рана в виде птицы.
Между ощущением вечности и сиюминутности – хронология жизни.
Однажды, живя в мезонине старого дома, я написал Сергею Левитову письмо:
«Здравствуй, Сергей!
Сейчас тот самый утренний час с шести до семи. И я пью чай и курю трубочку, что твой Китаец. За окошком пасмурно и сыро.
На огромном дереве перед нашим домом давно распустились листья, и мы наконец узнали, что это снова старый ясень.
Можно протянуть руку и сорвать узкий лист. Я думаю о том, как печально и хорошо здесь может быть осенью. Немного жаль, что я этого могу не узнать.
Не потому что сейчас лягу и не проснусь, нет – а потому что срок нашего жительства здесь определён пока августом месяцем. Но если угодно судьбе, то всё продлится».
Больше ничего писать не хотелось, и я написал:
«Больше ничего писать не хочется. Твой Игорь. 17.05.96».
Потом подумал немного, взял чистый лист бумаги и написал такое стихотворение. Получилось как-то по-китайски.
Сейчас огромный старый ясень
стоит перед моим окном.
Полгода он был просто деревом.
Можно протянуть руку и сорвать узкий лист.
Утренний час, как обычно, прекрасен.
Сыро и пасмурно, кажется сном.
Что-то такое судьба нам поверила –
можно просто смотреть, мир прохладен и чист.
Я думаю о том, как
печально и хорошо
здесь может быть осенью.
Наверное, так: в руках котомка,
мир стронулся и пошёл.
Там, за холмом, всё осталось, ничего не бросил я.
Где-то скрипит повозка.
|
|  После этого я начал думать о Китае. Так я придумал написать эту книгу. Тогда же я придумал первую фразу, про Наполеона. Тогда же придумал последнюю. Вот эту:
После этого я начал думать о Китае. Так я придумал написать эту книгу. Тогда же я придумал первую фразу, про Наполеона. Тогда же придумал последнюю. Вот эту:
В детстве райские яблочки у нас называли китайкой. Я не любил их есть, я любил смотреть, как они красиво растут.|
|
