|
VIII. цифра восемь не предназначена быть завершающей.
поэтому приведённый здесь отрывок – предпоследний.
Вот размышления о китайской вазе, составленные во время снегопада в новом доме:
Дом на самой излучине – стало быть, это река.
То-то вид из окна с замираньем в душе.
«…настоящий китайский дом – с маленькими окошками, высокими порогами, чтобы труднее было проникнуть внутрь злым духам, со всяческими колокольчиками – отгонять их…»
Так сказано в «Книге писем». Письмо № 24:
С помощью благовоний «в часы уединённой беседы о премудростях древних очищаешь сердце и водворяешь безмятежность в душе; читая ночью при свете фонаря,
прогоняешь дрёму и тревоги; ведя доверительный разговор, укрепляешься в своих чувствах и поверяешь свои сокровенные думы; сидя в дождливый день у окна
или прогуливаясь после еды, освобождаешься от суесловия и забот; а на ночной пирушке с друзьями под звуки музыки вольготнее отдаёшься беспечному веселью».
Гусиный длинный поплавок
рифмует зренье с трясогузкой.
На новом месте, прежде чем остановить свой взгляд и начать созерцать, нужно осмотреться. Ведь, прежде чем остановишься, нужно идти.
Время для размещения себя в новом пространстве имеет вид сосуда. Его очертания напоминают государство. Без него не может возникнуть традиция, без неё – китай. Какая лажа!
И останавливает взгляд.
Постой.
Сравни – один глоток –
меж воздухом калитки узкой
и золотом широких врат.
И вот в самом конце ноября, где уже сломаны последние перекладины приставной лестницы – после тяжёлой болезни по имени суета,
– я понял, как тяжело и невыносимо хочется остановиться. Падал снег. Он падал так долго, что я вспомнил вдруг Раненбург – место, где время похоже на тихий и медленный снег.
Когда обрушатся дожди
на наши гулкие селенья,
нам будет время выбирать.
Сейчас же только ты один,
изгнанник вечности и пленник,
рифмуешь «завтра» и «вчера».
Рифмуй – глядишь, захочешь жить
сейчас, меж будущим и прошлым,
плеск ветра – с воздухом сухим,
со вкусом снега – крик души,
огонь – с молчанием истошным.
Как жизни белые стихи.
По местному времени, ход его так тороплив, я ничего не успел бы: оставалось три дня, чтобы кончился отпуск, – они проморосили бы мелким осенним
дождём или слетели мраморной крошкой ледышек, стучащих о новой зиме. Были бы утра – с трубкой и чаем. Но трубка бы гасла, а чай остывал слишком быстро…
|
| 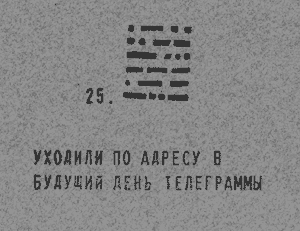 А там, в Раненбурге, – я знаю – в маленьком белом домике под зелёной крышей по утрам пьёт чай один китаец.
Он смотрит в окно, за которым белая равнина его огорода с деревянной теплицей, калитка, дальше белое поле с табунами сирени и тропинками, пробирающимися к реке.
А за рекой, на высоком берегу, город с маленькими домами, каменными и деревянными, с рынком, над которым кружатся птицы, с огромным фрегатом белого собора.
А там, в Раненбурге, – я знаю – в маленьком белом домике под зелёной крышей по утрам пьёт чай один китаец.
Он смотрит в окно, за которым белая равнина его огорода с деревянной теплицей, калитка, дальше белое поле с табунами сирени и тропинками, пробирающимися к реке.
А за рекой, на высоком берегу, город с маленькими домами, каменными и деревянными, с рынком, над которым кружатся птицы, с огромным фрегатом белого собора.
Поезд пришёл в тот самый утренний час – с шести до семи. Все деревья, кусты вдоль дороги искрились в сиреневом свете ночных фонарей.
Вот и прошла зима. Теперь я забыл, что хотел написать тогда. О китайской вазе. Которая непременно должна разбиться. Чего бы ты ни предпринял,
куда бы ни пошёл по заснеженной улице, вернувшись из Раненбурга. Как бы ты ни старался запомнить хоть строчку из этого чувства, посетившего так внезапно –
здесь и сейчас. И знаешь, так сладко, что несёшь в себе хрупкую вазу. Она разобьётся. Лишь только твоё сознанье споткнётся о первую встречу.
И сколько ни возвращайся – разве только найдёшь осколки. Точь-в-точь как сейчас.
Сколько раз я дочитывал это до слов: поезд пришёл в тот самый утренний час с шести до семи. Сколько раз шёл по улице, готовый зайти, отряхнуть
с себя снег и – продолжить. Сколько прекрасных ваз я разбил о память! Разве можно из них было выбрать между той, что была вчера, той, что может быть
завтра, и той, что была тогда. Когда все деревья, кусты вдоль дороги искрились в сиреневом свете ночных фонарей, – я шёл самой длинной дорогой –
мне было тревожно и сладко – с тончайшею вазой в душе. Только звук. Я запомнил лишь фразу: «поезд пришёл в тот самый утренний час – с шести до семи».
И то, как искрились деревья. Я знал и тогда. Обязательно будет разбита. Что бы я там ни писал о снегах и фрегатах. Так же, как будет рассвет,
уже скоро – как только дойду до рынка и Ягодной Рясы. Впереди будет свет, за спиною огромные звёзды. Знал, что ничего не скажу из того,
что хотел по дороге. Верней, не сумею именно так – как думал. Почти Достоевский.
Цзинннннь…
Так и случилось: никто никогда не увидит вазы по имени снег в Раненбурге. А он был огромен и нежен. Снег, летящий охапками с неба на землю, окно запотело,
мы все будем живы… Я сплю на мансарде.
И умер вечерний вороний крик
на городской стене.
И цапли на отмели у реки
застыли в блаженном сне.
Тысячу, полторы тысячи лет назад всё та же картина видится лунной ночью с проплывающей мимо лодки, в которой сидит Ду Фу и смотрит на храм –
за сонными клёнами с пагодой золотой, расположенный рядом с почтовой станцией, в красном доме, стоящем над белой водою. И ночью светло от большой луны.
Умер уже Ли Бо.
Скоро родится Цзюйи, мальчик семейства Бо.
Он придёт на могилу поэта – увидеть:
В бескрайних просторах, поля окружив,
сошлись с облаками травы…
В Цайши на крутом берегу реки…
|
|
