 |
|
II.
|
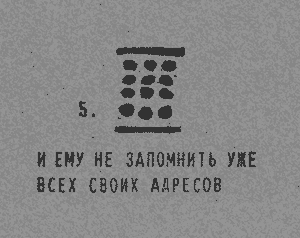
Малиновый родник. Золотая долина. Йонсел. Сто лет назад это был далекий и почти неведомый край. В начале двадцатого века проложили «К.В.Ж.Д.» – трамвайную ветку с 10-ю Дачными остановками. Каждый первооткрыватель видел этот край по-своему. Вот «ЗАПИСКИ РУССКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА» Владимира Дмитриевича Зёрнова, физика, третьего по счету ректора Саратовского университета: Лето 1919 года. ...Мне удалось получить на лето несколько дач около Малой Поливановки - так называемые Садомовские дачи, и мы всё лето провели там в очень хорошей компании… Дачи стояли у самого устья Штафовского ущелья с чудесными ключевыми прудами. Струя воды толщиной в руку, бившая из горы, была необыкновенно чистая и холодная. Горы все были покрыты лесом, а перед дачами расстилалась широкая степь. Я каждый день ездил в университет. Возил меня Богатырь, а кучером был красивый поляк Леонтий. Он с женой Клавдией жил тут же. Клавдия летом готовила нам. Лето выдалось чудесное, не сильно жаркое, достаточно влажное, что для Саратова – редкость, и благодаря этому была буйная растительность. Необыкновенно разнообразные полевые цветы украшали наши комнаты. В.В.Голубев имел прекрасный определитель растений, и мы забавлялись, отыскивая в нём названия и изображения цветов. На территорию дач часто приезжали крестьяне с продуктами, и мы на разные вещи выменивали у них муку и прочие снеди. (Сюнь-цзы, обладавший независимым характером и прямотой суждений, однажды заметил: Когда стоишь на высоком месте и зовёшь кого-либо рукой, рука не становится от этого длиннее, однако её видно издалека. Если крикнуть по направлению ветра, голос не станет от этого сильнее, однако слушающий слышит его очень отчётливо. Если ехать в повозке, запряжённой лошадьми, ноги не станут от этого быстрее, однако можно преодолеть расстояние в тысячу ли. Если плыть в лодке, от этого не станешь лучше плавать, однако можно переплывать большие и малые реки. При рождении совершенный человек не отличается от других. Он отличается от остальных тем, что умеет опираться на вещи. Физика, однако.) Лето 1920 года мы опять проводили под Саратовом. Приблизительно в тех же местах, что и в прошлом году, но на этот раз почему-то Садомовские дачи получить не удалось. Кажется, там были устроены детские дома. Я снял две дачи в самом ущелье. Прежде эти дачи принадлежали табачным фабрикантам Штафам, отсюда и названье самого ущелья – Штафовское. Дачи стояли выше прудов и, конечно, были довольно сильно разрушены. Часть стёкол была выбита, и мы пустые рамы заклеивали бумагой; дверь наружу не только не запиралась, но даже плотно не закрывалась, мы заваливали «входное отверстие» ковром. Штукатурка с потолка в общей комнате обвалилась и лежала грудой на полу. Тем не менее само место, где располагались эти дачи, было хорошее. Правда, дачи находились на дне ущелья, но горы вокруг были покрыты лесом, в котором в начале лета пело несколько соловьев. |
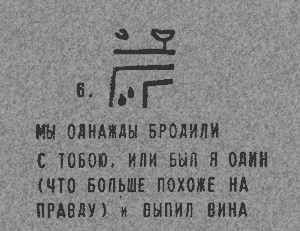
Поэтому, если с горы смотреть вниз на корову, она покажется бараном, однако человек, ищущий барана, не пойдёт к подножию, чтобы увести эту корову. Это происходит потому, что он понимает, что расстояние искажает величину вещей. Если с подножия горы смотреть вверх на деревья, растущие на горе, то деревья высотой в десять женей покажутся величиною с палочку для еды, однако человек, ищущий палочки для еды, не поднимается на гору, чтобы сломать эти деревья. Это происходит потому, что он понимает, что высота может исказить величину деревьев! Если вода придёт в движение, то вслед за этим заколеблются и отражения в воде, однако человек отнюдь не будет судить по ним о красоте самих вещей. Это происходит потому, что он понимает, что вода может ввести его в заблуждение.) На этот раз из наших друзей рядом с нами жили только Богуславские, остальные почему-то на дачу в это лето не поехали. Но к нам часто приезжали гости. А в мои именины было много народу, пекли торты из пшена, ставили большой самовар... Весной мы купили корову Голубку – симменталку из шмидтовского стада (у Шмидта было имение в Разбойщине, и там содержалась прекрасная скотина, которую после революции всю распродали). Она была изумительной красоты животное: белая с чуть-чуть палевыми пятнами, голова громадная, как у быка, и чёрные глаза. Надо мной посмеивались, говоря, что Голубка - мое последнее увлечение. Она, конечно, была с нами на даче и питала нас молоком. Её гоняли в деревенское стадо, за что пастух, когда наступала наша очередь, приходил к нам столоваться. Это был презабавный мужик, звали его Никиша. Во время пастьбы он читал «Анну Каренину», а прочитанные страницы выкуривал. В дни столования Катёнушка подносила ему стаканчик разведённого спирта, это угощение Никиша особенно ценил. Желая быть любезным и сделать хозяйке приятное, он как-то сказал: – Уж я чем-нибудь заслужу! Ну вот умрешь, я тебе гроб сделаю. Вот что запомнил об этой «стране» юный естествоиспытатель, в будущем ставший известным писателем Юрием Нагибиным: ...Вся саратовская моя жизнь прошла в одном ключе, в одной неистовой страсти, затмившей всё и вся: Волгу, которую я в тот приезд так и не «открыл» для себя, и самый город, оставшийся в памяти лишь облаком пыли, и его обитателей, с которыми я не вступил ни в какие отношения. Этой страстью были бабочки. Она настигла меня в самый день приезда, когда сын папиных хозяев показал мне свою коллекцию, хранимую в двух больших плоских картонных коробках из-под детской настольной игры с загадочным названием «Риче-Раче». Наколотые иголками на картон, с распластанными крылышками, похожие то на лепестки цветка, то на тончайший шёлк, то на бархотку, то на яркий, пестрый ситец, - бабочки были поразительно красивы. Я никогда не думал, что их так много и они такие разные. Я смотрел на бабочек и понимал, что отныне нет мне никакой жизни, если я не соберу такой же коллекции. Что привлекло меня: красота ли этих бабочек, предощущение ли азарта ловли или зараза чужого вдохновения? Скорей всего и то, и другое, и третье, а главное – коренящееся в каждом человеке стремление к совершенству и завершённости; бессильное пересоздать внутреннее существо человека, оно ищет свою форму в чем-либо внешнем. Коллекционирование – это фокус, в котором собирает себя распыленная личность. ... Я смутно помню Волгу и песчаные острова, куда мы ездили купаться, помню лишь низенькие кусты шиповника, где трепыхались жёлтые платьица лимонниц да пестрый наряд больших и малых оранжевых. Я почти забыл улицу, на которой мы жили, она представляется мне в мелькании сачка, которым я пытаюсь накрыть капустницу. Но я отлично помню все девять остановок - так называли в Саратове девять дачных посёлков, связанных с городом и друг с другом одноколейной линией пригородного трамвая: там приобрел я лучшие свои экземпляры дневных и ночных бабочек. В городе и на реке водились только самые простенькие представительницы этого летучего племени. |
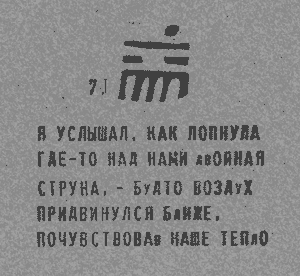
Наша отвага была вознаграждена. На восьмой остановке, близ крошечного бочажка, глядевшего из травы тёмным птичьим глазом, бочажка, из которого бил чистый, хрустальный ключик, я накрыл сеткой медлительного, низко и плавно парящего белого махаона... Надо мною жук летает майский Он кружит у самого виска. И похож на сад цветущий райский Город узкоглазый и китайский, Весь в морщинах жёлтого песка. Раз прохладой весенней ей выпала честь Искупаться в дворце Хуацин, Где источника тёплого струи, скользя, Омывали её белизну. Опершись на прислужниц, она поднялась – О, бессильная нежность сама! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Эти тучи волос, эти краски ланит И дрожащий узор золотой… и ты глядишь на свет, чего-то понимая, Об этом говорит твой равнодушный вид. От волжских берегов к подножию Синая Летаешь ты, пока булавка не пронзит. А умертвит тебя студент – из интереса Поближе рассмотреть достоинства твои. Ему плевать, что тьмы сейчас падёт завеса, Что мир следит полёт, дыханье затаив, А ты жива лишь миг в лучах его любви, И в бабках у тебя – китайская принцесса… |
|
Теперь мы ездили вдвоём с мамой, нередко исчезая на целый день. Это было жестоко по отношению к отцу, но что было делать – только на девятой водились бражники. Однажды мы с мамой забрались очень далеко от остановки. Проплутав в орешнике, мы вышли на широкую просёлочную дорогу, и эта дорога привела нас в сосновый лес. Высокие, на подбор, мачтовые сосны стояли одна к одной, голубоватые, прямые клубящиеся пылинками лучи солнца, как прожекторы, просвечивали их плотный строй. Быть может, оттого, что это были первые сосны, увиденные мною в Саратове, я сразу поверил в удачу. Я отыскал крепкую палку и, колотя ею по стволам сосен, двинулся вдоль опушки. Сосны коротким звонким эхом отвечали на удары, с ветвей осыпалось что-то, вспархивало, вызывая во мне сладкую дрожь и озноб, и наконец вспорхнуло со ствола – словно крупная шелушина коры ожила, отделилась от дерева и, протрепыхав в воздухе, перелетела на другой ствол и слилась с ним. Лишь на краткий миг в сером трепыхании шелушины мелькнули голубоватые пятнышки, и я уже не сомневался, что это молочайный бражник. Я бросился к сосне, на которую он сел, но бражник так замаскировался, что его невозможно было обнаружить. Я ударил по сосне палкой – бражник перетерпел, не выдал себя, но на меня кинулся целый рой диких ос, гнездовавшихся на сосне. Казалось, мне сделали все прививки от оспы до противостолбнячной. |
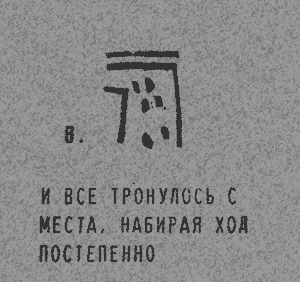
– Знаешь, – сказала мама, нервно затягиваясь папиросой, – а ведь бражник так и сидит себе на сосне. Я преданно взглянул на мою безумную мать и двинулся к сосне... Вернулись мы поздно, к ночи, с каким-то случайным, заблудшим трамваем. Отец ждал нас на улице, у него было чёрное лицо. В раннем детстве я провёл здесь мучительных полсрока лагерей в первые свои летние каникулы. И отсюда, из пионерлагеря «Лесной», где нас мучили кашами, подъёмами и мёртвыми часами, где засветло клали спать, где зловредные вожатые утопили в глубоком сортире весь наш арсенал – ножи, кортики, сабли, пистолеты и проч., сделанные из добываемой с риском алюминиевой проволоки, – отсюда я совершил когда-то чуть ли не первый свой побег. Правда, с ведома родителей. И с пересылкой в другую, вольную тюрьму – к бабушке в Красноармейск. Из лагеря я вынес, помню, некоторые науки: сводить бородавки чистотелом и шерстяной ниткой, закопанной в землю, делать свистульки из стручков акации и подтираться лопухом. Потом, спустя двадцать с лишним лет, я, влюбленный, совершал другие побеги, в обратном направлении, в ту самую местность, где возвышаются в долине перед лесом огромные, сваренные из металла, белые буквы с названием лагеря. Там, в лесу, есть старинная дача с верандою и мезонином. Это место удобное для вдохновенья и счастья. Это –
|
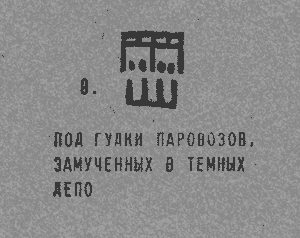
За то, чтобы было время смотреть на костёр и звёзды и чтоб оставались силы кагор и мадеру пить, и просто за то, что создал Господь нас такими, какие мы, что вызволил нас сегодня и, тихо назвав по имени, все сны соизволил длить. давайте помолчим хотя бы одну страницу |
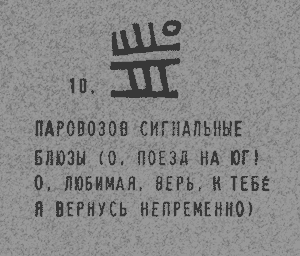 | |
Утро – весна дня. | |
|
